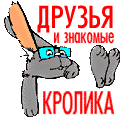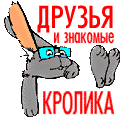|
Слова, они как люди: иные топорщатся поперек волны, словно бы особые какие, не как все, – но то до поры: стоит лишь приступить к ним по-свойски, по-взрослому – глядишь – и уже сравнялись с прочими, где что было – не видать теперь: слова как слова.… А есть другие, незаметные – тихие такие, блеклые, едва на звуки расчленимые… да и звуки эти промеж других, – что за звуки: скрежет и ветра вой, а не звуки – произносятся они украдкой, как бы между прочими, и словно бы исчезают бесследно, и нет их вовсе, и все забыли про них.… И лишь годы спустя вдруг возвращаются они уже в гранитной весомости – и, падая ниц, расступаются перед ними слова другие, так и не признав их прежних, и дивятся их негаданному величию: откуда бы такое? чьим установлением? к чему бы?
Или, вот, такие слова, которые как бы и не несут в себе ничего – и, право, нечего приглядываться к ним, вслушиваться нечего – нет в них какой бы то ни было определенности, ничего конкретного, как не ищи. Ан, поди ж ты: витает вокруг слов таких будто бы запах какой-то особый, и всякий, услышав тот запах, распознает его безошибочно в полноздри, и, распознав, бросает все, все дела свои и затеи, и, бросив, встает в готовности неосознанной и нераздельной, ибо слова те есть сама власть…
Власть приходит к нам легкой поступью ребенка, власть поселяется в нас, каменеет в нас, становясь подобной одноглазому сутулому истукану из какой-то забытой сказки, и, после, изрыгает уже нашими собственными устами те же самые слова – слова власти.
Но, полно – что это за слова такие, в самом деле? Какое из них наипервее прочих? Перед каким умаляются иные слова, тоже весомые и значительные? Что это? Народ? Держава? Нет? Какое же тогда еще? Партия…
Партия, собственно… фу, ты, прямо рука немеет… так вот, партия – она не то, что бы какая-нибудь, там, особая у нас партия, или, скажем, медом намазана или еще чем – а просто, так сказать, партия. Партия – и все. И даже объяснять что-либо нет нужды – прочь длинные фразы, спи, чреватая подвохом, буржуазная прислужница - хитрожопая старуха-логика: сказано ведь, и сказано ясно – партия. Коротко и лапидарно…
И даже того более: не одно слово "партия" на свете, а несколько, ибо каждому случаю, конечно же, присуща своя разница, и, бывает, произнесешь "партия", а бывает, напротив – "партия", когда - выстрелишь одними губами: "партия", а когда – и сквозь зубы выцедишь, так, что едва ли не "з" слышится после "р": "пар-ртия". А когда бывает – и приведется скандировать по слогам, будто бы для записи под назидательную диктовку: "пар-ти-я". Ладное собой слово, звонкое, о трех слогах – хоть тихо, хоть громко его услышишь – едва ли с каким еще другим спутаешь…
Или вот такое, к слову сказать, обстоятельство: если кто произносит с придыханием, глухо выдохнув сквозь неплотно сомкнутые губы на первом звуке, так, что едва ли не пузырек маленький словно бы лопается вслед за ним, да после, на четвертом звуке уже, язычок к верхним зубам льнет, скользя, мягкое "т" едва ли не в "ц" обращая: "пфартцьия", как-то так.
И ведь неспроста все это… Неспроста, потому в каждом случае есть свой особый смысл, и человек знающий, поживший, уже, так сказать, повидавший, чей опыт не таясь, проступает сквозь поредевший волос седыми серебрящимися нитями, такой человек в миг отличит одно от другого, он не ошибется, не спутает интонаций, не смешает значений, он знает, как быть в том или ином хитросплетении обстоятельств – и, услыхав заветное слово, когда даже пропустит без сожаления его мимо уха, а когда – напротив, замрет сердцем в томительном, сосущем измождении ужаса.
…А говорят еще лукавые люди, что вовсе не так все было: и не в Кремле все решалось, а, напротив, в ином совсем месте. И как помер Сталин, то Хрущева-то рядом и не было вовсе, потому как еще прежде того, за год ли, за полгода, но не вынес он всей этой удушливой камарильи, и, едва случай представился, сам же, собственным распоряжением подался из Москвы прочь. Хоть бы куда. Подале только. На Украину, в Донецкую область, считай – домой. Где угольные терриконы да поля бескрайние – подсолнечник да пшеница: глядишь на них, и сердцу легче – ни тебе интриг, ни злобы лютой – одна только природная жизнь, и все. Для здоровья польза опять-таки, как говорится, да и толку поболе.
Ну, а в Кремле-то после как схватились за головы, да как призадумались горько-горько: а что делать? Сидеть да ждать, пока Лаврентий Павлович челюстя свои сомкнет? Поди, недолго уже: как говорят врачи, первичные признаки налицо – потихоньку, помаленьку начали тягать на Лубянку секретарей да шоферов личных – а это уж каждому понятно чем пахнет… не раз наблюдать приводилось за годы, что да, то да… Так вот, горевали они горевали, дрожали они дрожали, и, наконец, осенило их, что следует срочно призвать во спасители какую-либо персону подходящую – а иначе кердык, всем кердык, по полной форме. Ну и обратили взоры к Хрущеву – должно, отсутствие его свою роль сыграло: тому, кто далече, к слову сказать, зачастую, не так обидно золотую рыбку власти на блюде выложить, как ближнему своему: мол, на это-то плюгавую рожу, с завтрего уже снизу вверх взирать? нет уж, дудки! Да, у нас ведь такой порядок, по всему, еще с варяжских времен заведен, так что ничего странного… ну, да это уже сам… сан… как их? - сантименты, и до дела впрямую не относится. Ну вот, стало быть, долго ли – коротко ли, но сошлись они все на кандидатуре Никиты Сергеича, сговорились, и решили отправить к нему делегацию. Само собой, когда до обсуждения персонального состава дошло – шуму поднялось выше крыши. Сошлись на том, что включили всех почти, кто того хотел (кое-кто, напротив, и сам отговорился – мол, по здоровью или там по занятости…) Ну, вот, стало быть, решили, собрались в момент – можно бы ехать. Да только вот куда? Дернулись в его московскую приемную – да не тут-то было: пусто в приемной, лишь секретарь сидит, один-одинешенек, скучает, сам себе чай заваривает и на подносе сам же себе его приносит, с рафинадом да с сушками: нет никого, даже телефоны – и те молчат. Хоть песни пой. Скука. С утра, правда, еще газеты выручают – пока все перечитаешь, часа два с половиной, три, положим, долой, но не больше того – ну а потом как быть? Пробовал секретарь книгу читать – взял где-то хорошую такую, толстую книгу, детективную, "Бесы" называется, автор еще с польской такой фамилией длинной: что-то там как-то ебский… Да только, видать, не пошло – едва читать начал, буковки поплыли-поплыли, затуманились и едва не исчезли: очнулся секретарь, встряхнул головой, вновь читать принялся не без усилия, страниц шестьдесят одолел и вновь книжку захлопнул: теперь уж насовсем. Скучная какая-то – герои словно бы на коммунальной кухне все равно, истерика из ушей лезет. Ну ее… Несколько дней после этого секретарь томился не на шутку – как в тюрьме, все равно, потом жена надоумила: чем так сидеть, лучше бы спицами вязать научился, польза бы была хоть какая. Секретарь сперва аж развеселился, дурой жену обозвал, идиоткой толстожопой, ну да как всегда, то есть… без злобы какой в сердце, а так… хотел еще кулаком хватить слегка по скуле, чтобы с синячищем недельку погарцевала, но передумал впрочем… Однако ж в голове засело: пару месяцев спустя, как бы к слову, заставил жену показать, как там чего делается с этими ее спицами – оказалось, дело не умнецкое, потому бабы им и занимаются, а так – любому доступно. Ну, в общем, начал он вязать – попервоначалу, понятно, были трудности, без этого никак, но вскоре навострился: связал себе носки, потом еще одну пару, хотел и третью связать, да передумал – куда ж столько, что он таракан шестиногий какой, что ли – и связал тогда шарф теплый в полоску – если зимой в Хлебниково на рыбалочку ехать – то в самый раз… короче, со спицами в руках его и застукали: ввалились разом все, аж в глазах от пиджаков потемнело. Поднялся секретарь со своего стула, рот раскрыл, а что сказать – не знает: однако ж, чувствует, что каюк ему настал вот теперь всамделишный – кто ж будет его такого, со спицами да с вязанием, дальше тут терпеть… хорошо еще, если выгонят просто: а то, кабы не хуже того…
Ну, стало быть, поднялся он со своего стула, думает, надо бы руки по швам, что ли – а никак: руки-то заняты шарфом очередным (вот же – черт дернул: ну, зачем, спрашивается, ему еще один шарф? чтоб моль не сдохла? ан, нет – начал, что называется, по инерции: дескать, чего б не повторить, коли единожды получилось). Так вот, стоял он с этим своим шарфом в руках, стоял – и рад бы его из рук выпустить, да не разжать никак пальцев, хоть ты что – напрягся он тогда, напружинился и перекинул вдруг шарф себе за шею, словно бы на морозе оказался, аж спицы друг об друга слегка брякнули. Инстинктивным, можно сказать, движением, по-бабьи. Перекинул, и молчит – все никак слов не подобрать – однако же молчат и пришедшие: словно бы в замешательстве каком – и будто бы каждый из них норовит даже вовсе первый ряд покинуть, куда-нибудь за спины за пиджачные спрятаться, затесавшись… Но, впрочем, недолго они друг на друга молчали – выскочил тут вперед вертлявый такой, из себя незаметный, словно бы крыса на длинных ножках, выскочил, к секретарю приблизился, блокнотик из кармана достал, раскрыл на серединке да чуть не носом в него уткнулся: "М-де… гражданин Хрустобайлов?.. м-де… так-так, гражданин Хрустобайлов… так вот вы службу вашу блюдете… м-де… что ж, вы, похоже, от службы устали, нет?.. м-де… похоже, похоже, м-де… " И вдруг как гаркнет, глаза подняв: "Смир-рна!.." У секретаря едва ноги не подкосились. Вытянулся он, замер, глаза из орбит вот-вот прочь выпрут, были б очки – лопнули б, не иначе – стоит теперь, словно столб телеграфный, черен и нем. А вертлявый как будто и рад – вновь окинул секретаря взглядом с головы до пят, медленным таким, довольным, словно бы десерт в ресторане где-нибудь рассматривает, когда уже и первое, и второе позади, сытые все, разморенные – а все равно сладкому рады… так вот, развернулся вертлявый кругом, хлоп - и вот уже нет его – растворился за спинами, прям наваждение – словно бы и вовсе не стояло его тут никогда. А взамен – вышел вперед всех Каганович, вразвалочку к столу подошел, и, кашлянув в кулак, сказал тихо: "…ну вот что, голубчик, потрудитесь сообщить нам немедленно, где сейчас находится товарищ Хрущев Никита Сергеевич и как с ним связаться… нам с товарищами срочная необходимость к нему есть…" Проглотил тогда секретарь застоявшийся в горле ком, здоровенный, с кулак, и с усилием выдавил гортанью какой-то дикий, почти-что неприличный звук…
Добирались долго. Сперва на "Дугласе" до Харькова – Донецк не принимал метеоусловиями – будто бы низкая облачность с грозами – так и простояли рядом со взлетной полосой наверное минут сорок, в духоте и молчании, ждали невесть чего… Потом все же кто-то как будто бы распорядился – подали автомобили к трапу, в депутатском зале накрыли на всю делегацию обед – скоротали в итоге еще час. Ели, кстати сказать, безо всякого аппетита, молча, как бы механически, что ли… К "Столичной" никто и не притронулся даже – зато "Ессентуков", четвертый номер, ушло будь здоров: бутылки по две на брата… должно, жгло внутри у каждого, не иначе…
Чуть позже доложили, что вроде бы принимает Ворошиловград, там погода получше, или что; вновь погрузились в самолет – однако ж, опять-таки взлета сразу не дали: минут двадцать мурыжили на рулежке, затем вывели на полосу – и снова встали. Зачем? По какой причине? Неизвестно… Наконец, взревели моторами и пошли на взлет; поднялись в воздух – и как будто спокойнее стало вдруг на душе, и даже пошутил кто-то, сцедив сквозь зубы зло, что, мол, а ну как приземлимся аккурат в известно чьи лапы… ну, да, понятно, никто этой шутки не поддержал…
Лететь до Ворошиловграда недолго – на все про все час, наверное, не больше. Пялились молча в иллюминаторы, рыли взглядом грязную сплошную вату – ни просвета, ни провала, лишь изредка, словно бы горбом или взрывом – вроде гриба такие взболтыши… черт их знает, почему образуются…
Уже на подлете к Ворошиловграду второй пилот объявил, что, дескать, получена радиограмма - Донецк открыт наконец, дали погоду. Однако посадку не отменили все равно, на этот раз ввиду нехватки топлива: будто бы в Харькове заправили лишь тютелька в тютельку… Ну, ладно: против такого не попрешь, как говорится. Сели, значит, в Ворошиловграде. Глядят: встречает их группа ответработников местных, все чин по чину, как положено – во главе с первым секретарем обкома. Встретили у трапа, руки пожали, и давай в город зазывать – мол, то у них, и се у них, и ударники производства у них, и в рабочих коллективах чего-то там… А пуще всех – Первый ихний: ну прямо соловей краснощекий, такому бы за заем государственный агитировать… Словом, еле отбились: прямо на летном поле ноги размяли пока "Дугласу" баки заливали керосином – и назад. Опять рев моторов, опять разбег, земля уходит вниз, затем встает стеной по правому борту – пошли на круг. Выдохнули. "Ну, думают, сейчас Донецк". Ан, нет – опять радиограмма, что, дескать, вновь заволокло. И Ворошиловград заволокло обратно – куда деваться? Запросили землю и вновь легли на круг в ожидании – минут через десять только земля дала Днепропетровск. Что ж: Днепропетровск, так Днепропетровск. И получаса не прошло – сели в Днепропетровске. Сели, заглушили моторы – ждут трапа. Смотрят члены делегации в иллюминаторы, а там – те ж самые лица: ответработники в пиджаках, Первый-здоровяк, девицы-красавицы с хлебом-солью… Делегатов аж мутить начало – прямо наваждение форменное – будто бы этих вот встречающих следом кто отправил. Или, лучше, в ихнем же "Дугласе" в багажном отсеке – вон, у Первого как будто бы даже пиджачок маленько попримялся… Ну, что делать: спустились по трапу, встали – опять те же речи, слово в слово: и про ударников, и про трудовые коллективы… В разгар приветствий к Микояну подошел кто надо и доложил, что можно лететь уже – Донецк опять открылся. Само собой, церемонию скомкали мигом – и айда в дугласовское брюхо гудящее. Поднялись в воздух – и опять незадача: тут же передали, что по новой заволокло все, и Донецк и Днепропетровск – один Ростов-на-Дону принимает, там будто бы погода хорошая.
В Ростове и в правду было ясно. Вечернее солнышко без счета сыпалось на всех и вся, ласково так, негромко – и, подчиняясь ему, хотелось зажмурить глаза и думать о несерьезном: о детях либо об отдыхе – а никак не о власти и оборотной ее стороне – лубянских сырых застенках…
Почти что сроднившиеся уже с "Дугласом" делегаты едва ли не нехотя самолет покидали – от долгого сидения ноги, казалось, вдвое опухли, переставлялись теперь с усилием, как во сне все равно. Спустились, значит, по трапу. Видят: машины приближаются. Понятно: встречающие, как положено. Подъехали. Выходят. Смотрят делегаты: а это давешний Первый со своей хлеб-солью и девицами-красавицами. Только и разницы, что рубахи на девицах – были одни, должно, украинские, а теперь, стало быть, русские народные, по принадлежности, что называется. Чин по чину. Да, впрочем, кто их разберет, рубахи эти… Шепилов, тот едва в обморок не упал: ему почудилось, что и каравай символический надкушен даже – аккурат, с того самого края, где в Днепропетровске еще Молотов отламывал, нехотя… Вгляделся он тогда Первому в лицо: ну, тот же, что и давеча, хоть фотографию делай – здоровяк краснощекий, ресницы светлые, и также точно галстук на левую сторону сдвинут чуть-чуть… Жутко стало Шепилову, как-то удушливо-жутко, подался он бочком, бочком назад – и незаметно, по трапу опять в салон. Пусть и неуютно в пустом самолете – зато без наваждений. Вернулся на свое место, уселся, успокоился. Тут его кстати и бортинженер заметил – а где все остальные? – спрашивает, - лететь пора, открыли Донецк наконец.
И опять не вышло. Ну, что за погода в этом Донецке, ей-богу – сам черт не разберет! Сели на этот раз в Полтаве. Едва керосину хватило, к слову. Из самолета решили не выходить, устроили совещание. Пока совещались – снаружи стемнело. Выглянули из черноты украинского неба дородные звезды – золотые, крикливые, что твой фонтан на ВДНХ – словно бы в назидание какое или в насмешку, не иначе. И поманило всех покоем – бросить все, заночевать здесь же, в Полтаве этой. Расслабиться на чистом белье, сняв с себя прочь пиджачные потные вериги… Выспаться, а назавтра – будь что будет! Видит Каганович, слабеют товарищи – срочно надо предпринимать что-то, ни то еще, чего доброго, кто-нибудь вообще назад, в Москву попросится. Тряхнул он головой, откашлялся и, придав голосу весомость прямо-таки чугунную, рельсовую – на какую был способен только – сказал вот так:
"Послушайте, товарищи, меня, послушайте: текущего момента я выжимку здесь приведу. Я знаю, что и как. Мне доложили стержень обстановки, достаточный, чтоб быстро отыскать решение насущного вопроса – к чему стремиться и куда нам плыть. В гостинице обкомовской – аншлаг. Полны все номера – собрались делегаты со всех районов обсудить проблемы, ужасно важные: про хлеб, про сенокос и про изменчивость международной обстановки. Конечно, можно б и в других заночевать, да только это не к лицу нам – уж поверьте: мы уважение к властям рассеем в миг, в клоповнике все вместе оказавшись, в колхозном, без охраны, без всего… Какое уж тут Партии величье и продвиженье ленинских идей! Иной есть вариант: на рельсовых путях, тому уж восемь лет, стоит особый поезд. С салон-вагоном, вентиляцией и кухней, с особо мягким, тихим поводом рессор и со спецальным помещеньем для охраны. Фашистский генерал Гудериан курсировал меж фронтом и начальством в том поезде, когда же припекать уж начало, всходя, Победы солнце, он пересел, кряхтя, в железнорылый танк, а поезд – тот достался партизанам, и вскоре был поставлен на баланс ЦК (желдоротдел управделами). С тех пор он здесь стоит. Регламентных работ не прерывалась череда еще ни разу. Исправны тормоза, гидравлика в порядке, начищены все медные детали до блеска и укомплектован штат: в двухчасовой готовности команда – охрана и сопровождающие лица…"
Тут, однако, Шепилов его перебил:
Нелепо, товарищи, дергаться нам –
нелепо менять направленья и мненья!
Взгляните, товарищи, по сторонам:
не в силах в себе побороть изумленье,
партийные массы за нами, как тени,
следят, не смыкая внимательных глаз…
Но Каганович словно бы его и не слышал: "Возьмемся ж за руки, товарищи, сейчас. Сойдем по трапу вниз – уж поданы машины. В центральном ресторане "Урожай" накрыто все по высшему разряду: все, чем богата украинская земля, все, чем она была богата и богата будет, зажарено, припущено, полито искусным соусом, в бутылках водки стынут, и давит с нетерпеньем, что есть сил, шампанское на корковую пробку… Без ужина, товарищи, нельзя! Ни на войне, ни дома, ни на службе! Об этом мне по многу раз твердил еще великий наркомздрав Семашко – пренебрегать советом не с руки, когда в Стране Советов вы живете… Так вот, поужинав теперь и покурив, поедем мы на станцию и сядем в тот поезд, о котором я сейчас вам говорил, и ночь пройдет легко под перестук колес… Ну, что же? Голосуем? Давайте же, товарищи, кто за? Не нужен кворум, чтоб принять теперь решенье…"
Все, кроме Шепилова, подняли руки, голосуя. Шепилов в замешательстве окинул взглядом салон самолета, после чего торопливо поднял руку тоже.
– Вы присоединяетесь к нам, товарищ Шепилов?
– Да... да, конечно, товарищи…
И ведь надо же такому случиться совпадению – на дороге на железной в тот самый день тоже творилось непойми-что. С Полтавы от перрона вроде как тронулись бодро – под перестук колес, с длинным гудком разъезды да полустанки проскакивая – да недолго длилась та благодать: проехали Карловку, Сахновщину, вот уже, того и гляди, Лозовая будет скоро – и вдруг встали. Встали и стоят. Прямо посредь перегона. Ночь вокруг – черная, тихая, украинская, лишь паровоз чихает, избыток пара сбрасывая... ни черта не понять... Стояли, значит, стояли, потом, вроде как, тронулись помаленьку – осторожно так, боязливо... Но все ж едут – и то хорошо. Миновали Славянск, затем Горловку (там, впрочем, тоже стояли минут сорок – ждали, когда паровоз водой заправят). От Ханженково должны были, по всему, свернуть на Ясиноватую, ан, поехали почему-то дальним кругом, как видно – через Илловайск с поворотом на Ларино – Долю – затем Рутченково. По какой причине – бог весть!
Короче, к донецкому вокзалу подвалили уже в четвертом часу дня следующего, усталые все, невыспавшиеся – прямо из вагона Каганович связался с обкомом партии, однако там о местонахождении Хрущева не знали толком: будто бы вчера инспектировал колхоз Красная Новь, но вот куда потом отправился и где ночевал – никто не в курсе. Отругал Каганович нецензурно дежурного (тот, кстати, потом лечился три недели в обкомовской больнице – сердечко, видать, расшалилось), сплюнул на ковровую дорожку суховатой, усталой слюною и велел вновь с обкомом соединить. Соединили. Другой, по голосу судя, дежурный подошел к трубке, слышно было, как стул отодвигаемый скрипнул – видать, стоя дежурному разговаривать сподручнее показалось. "Да, товарищ Каганович... так точно... мигом организуем, товарищ Каганович, и вам и всем товарищам... сейчас же свяжусь с гаражом управления делами, товарищ Каганович, а если там заминка иль чего – то продублирую в штаб округа... нет, думаю, не откажут, товарищ Каганович... нам еще ни разу там не отказывали... да..." Ладный по всему на этот раз дежурный оказался, исполнительный – хотел Каганович фамилию его куда-нибудь себе записать на заметку, да поленился: не до того сейчас было. Вернулся к товарищам – те как сидели в оцепенении усталости, так и сидят. Иным, по совести, всего ближе – домой теперь податься, в Москву, да сил нет уже и на это. Так вот и топорщатся на своих местах – вроде как смелые, но смелые от усталости. "Ну, – думает Каганович, – это еще полбеды, как говорится". Встал он тогда так, чтобы все его видеть могли без помех, и улыбнувшись устало, но понимающе, произнес громко:
"Ну, что ж, товарищи, мы близко, мы у цели. Еще одно, последнее усилье – и мы найдем того, кого искать отправило нас партии доверье. Проделан путь немалый, это так. Испытаны все транспортные средства Задействованы многие каналы – распорядительность везде на высоте. И нет сомнений, что все кончится успешно – тому залогом сила ленинских идей и опыт, опыт наш объединенный. Засучим рукава и станем ждать – сейчас к вокзалу подадут автомобили. Мы двинемся вперед через леса, через поля, где золотой подсолнух и золотой пшеницы благодать..."
Вроде как проняло. Зашевелились члены делегации, задвигались, на перрон вышли, смотрят вокруг: где там обещанные автомобили? Нигде ничего... Ан, оказывается, не туда смотрели – автомобили-то им подали быстрее быстрого, да только не те, каких ждали. Подали им, стало быть, грузовые полуторки. Обыкновенные, в каких хлеб развозят или, там, удобрения минеральные – иные фургонами, а некоторые, напротив, бортовые, да только какая в данном случае разница... Открыл было рот Каганович, чтоб сопровождающего распечь, да тот опередил: "Тут уж, товарищ Каганович, сами посудите, ситуация с дорогами, стало быть, после дождей критическая... легковушка никак не пройдет... чем хотите побожусь – а только не пройдет..." В другое время, конечно же, так бы это не оставили, само собой. Чем-то нехорошим попахивает – уж ни диверсией ли? Что это у них тут с дорогами такого особенного, скажи пожалуйста? Да только времени не было разбираться – махнул Каганович рукой, и все по кабинам расселись. Завели моторы. Поехали.
Ну, и опять та же волынка – едут-едут, приезжают в очередной колхоз, а Хрущева уже и след там простыл. Был, да сплыл. Вновь едут, до следующего, так сказать, пункта – а и там то же самое. Прямо голландец, как говорится, летучий. Несколько раз в дороге останавливались – то полуось у одного грузовика того, то камеру прокололи. А однажды из первой машины вдруг дым повалил белый – полчаса потом с радиатором возились, пока кто-то водителю не объяснил на ушко, где он станет баранку потом крутить, если сейчас же не тронемся.
У какой-то развилки, помнится, встали бензином заправляться. Час ждали, не меньше. Наконец цистерна подкатила военная – вся в глине, словно бы ее из земли кто выкопал – что твоя картофелина, честное слово. Оказалось, завязла неподалеку, что ж сделаешь.
Также еще покормили их однажды – возле хутора Мертвый Жмых. Скудно и неаппетитно, каким-то варевом неясным и хлебом с отрубями. Ну, да иные делегаты и этой пище рады были радешеньки – почитай, с полудня ни крошки во рту...
Словом, и эта дорожка не в радость оказалась, что тут скажешь! Так и крутились среди подсолнухов да той самой золотой пшеницы благодати, что твой агроном: движения много, а результата – чуть. Тем временем стемнело понемногу – отвернулись в сторону подсолнухи, спрятали стыдливо свои львиные гривы – делегаты уже и не ропщут: едем и едем, всяк лучше, чем стоймя стоять. Лучше ехать со скрипом, чем стоять со всхлипом, как в народе нашем говорят. Незаметно ночь прошла, под хоровод дальних огней, сливающихся должно быть, где-то на горизонте с жирными южными звездами – делегаты не то, чтобы выспались на жестких своих сидениях, но как-то перебили сон, ежечасно проваливаясь в небытие и вновь пробуждаясь, едва машина наедет на очередную кочку; утро приняло их потными, в приросших к телу шерстяных пиджачных веригах и с мерзостным привкусом во рту – словно бы пили накануне какую-то гадость: политуру или что...
В десятом часу встали все вдоль обочины рядком, затем первая машина, где Каганович сидел, проехала чуть дальше, развернулась, подмяв правым передним колесом придорожный куст и, поравнявшись кабина-в-кабину со вторым в колонне грузовиком, остановилась. "Держитесь, товарищи, немного еще осталось – только что передали, что Никита Сергеевич в двадцати килóметрах отсюда – удельную урожайность замеряет выборочно. Через час доберемся, самое большее..." Улыбнулся затем Каганович улыбочкой свежей, молодцеватой, что твой артист Крючков все равно, потом кивнул водителю своему, и тот повез его дальше вдоль строя – к следующей по счету машине. Так и объехали они всю колонну – прямо, как адмирал на морском параде, точь-в-точь. Объехали, вновь развернулись, еще более залихватски, чем до того, и, газанув, вернулись на свое первоначальное место – в голове строя.
Через минуту тронулись. Еще полчаса спустя, на развилке едва приметной, Каганович подобрал кого-то в свою машину – должно, из ближайшего колхоза откомандированного, чтоб дорогу показывать. Еще минут через пять дали знак, что надо с дороги сворачивать – на какой-то проселок едва просматривающийся. Пылищи тут же вздыбилось – не передать: по центнеру на каждое колесо, не меньше. И ладно бы только это – так ведь ямы еще, колдобины, рытвины всякие, будто на минометном стрельбище – поди, разгляди их в пыльном облаке! Короче, зубов количество от такой дороги, того и гляди, убавится, а вот макушек, напротив, возрастет – это уж точно! В общем, минут сорок эта пытка длилась, сорок пять – а уж делегатам она за многочасовую встала – наконец приехали куда-то, заглушили моторы. Никого не видать – лишь поля, поля только и все. Хлеба налево, хлеба направо: даже птицы над полями не кружат почему-то. Выбрались из кабин, размяли затекшие ноги. Опять ждут чего-то – а ничего не происходит: те же лица и та же пшеница вдоль дороги от горизонта до горизонта. Только, разве что, небо вскорости заволокло чуток. Даже удивительно как-то – всю неделю ни облачка, а тут вдруг раз – и все серым-серо, прямо цемент, да и только.
Ну, вот, ждали они ждали, слонялись они слонялись взад-вперед, камешек мелкий носком ботинка подгоняя в задумчивости, как бы на манер футболиста – а толку никакого. Апатия воцарилась вновь среди делегатов, уже и меж собой они беседовать не пытаются даже – да и вообще друг на друга не смотрят: а чего смотреть, в самом деле, коли двое суток друг у друга бельмом на глазах беспрерывно, заместо родной жены. Намозолили, так сказать. Вот ходят они туда-сюда по грунтовке по этой – переживают. И в переживании в таком апатичном, как водится, самое главное-то и проворонили: вдруг глядь – вот он, Хрущев, стоит рядом, живой и здоровый, веселый и сытый. Откуда взялся, с какой стороны пришел, кто первый увидел – бог весть! Стоит, на небо смотрит прищурясь, головой качает. Шляпу снял, лысиной на миг сверкнув, из кармана платочек достал – промокнул лысину. Пиджак расстегнут, галстука нет и в помине, под пиджаком – вышитая рубаха. Вокруг сопровождающие – человек пять, не больше – все как один Хрущеву подстать: упитанные, широкоплечие, загорелые. Только моложе, само собой. И ростом повыше.
Обступили все Никиту Сергеича, в плотный взяли круг, заворковали наперебой, как дети, все равно, в саду в детском. Аж не понять ни слова.
– Ну, что тут у вас, товарищи?.. Говорите по очереди, а то когда вместе все – то гул один стоит, как на элеваторе во время вагонной выгрузки, ей богу!..
Переглянулись. Видят: у каждого в глазах будто небольшое солнышко взошло – огонечки сверкают, давешней усталости и след простыл.
– Да мы, Никита Сергеевич... мы вот приехали... нас откомандировали, так сказать, представители партийной общественности... а также широких народных масс...
Нахмурился Хрущев, лицо грозным стало, величественным, словно бы ветрам да молниям он теперь повелитель – того не меньше. Обвел всех взглядом по очереди, кивнул словно бы ободряюще. Тут делегатов, почитай, прорвало:
– Отец наш!..
– Спаситель!..
– Надежда наша единственная!..
– Не дай погибель обрести смертию лютыя... предохрани от напасти неминучей...
Терпеливо слушал их Хрущев. Терпеливо и молча. Слушал, а сам под ноги себе смотрел скромно, словно не о нем и речь. И лишь когда выдохлись делегаты, выпустили пар, изошли словами энергичными, лишь тогда он голову поднял. Замолкли все, аж слышно стало, как муха жирная зеленая вокруг штанов чьих-то во втором ряду жужжа кружит-наяривает, видать запах ее привлек либо подружку себе ищет, как водится – ну, да не о ней сейчас рассказ.
Посмотрел Хрущев вокруг себя опять, шаг назад сделал и рукой наискось так махнул – расступись, дескать.
– Вы это... вы, товарищи, стало быть, расступитесь-ка чуток... мне, стало быть, того... пройти, значит, надо... Ну, что ж вы стоите, такие непонятливые, ей-богу – отлить мне надо, а вы весь проход здесь собою перегородили, как специально...
Мигом расступились – еще раньше даже, чем слова в воздухе смолкли.
Ждали молча, но нетерпеливо. Прохаживались.
Наконец показался из пшеничных зарослей – пшенице спелой едва ли не в рост, такой родной, такой любимый! Вышел, улыбнулся устало – морщины трудовые на загорелом лице обозначились – мельком вновь на небо взглянул, на миг нахмурившись, затем опять на делегатов:
– Ну, что ж... будем работать, раз уж так складывается... рукава засучим и будем работать...
Ликование. Ликование произошло в рядах – сперва робкое, словно бы сдерживаемое чем-то, затем смелее и смелее с каждой секундой – и, наконец, разлилось, ничем уже не пререкаемое – усталость двухсуточную перечеркнувшее в одночасье. Сперва сгрудились все вокруг, затем качать стали – уж не знаю, кто и мысль эту подал, а только качали от души: Хрущев аж забеспокоился, что уронят вдруг как-нибудь невзначай.
– Полегче... полегче, черти – вы мне весь пиджак в клочья изорвете, ей-богу... ишь, раззадорились – хорош, говорю, хорош: ехать надо, а то, того и гляди, дождь засадит накрепко – не ровен час, до колхозной усадьбы тогда пешком ковылять станем через поля да напрямик...
С тем и вернулись в Москву не откладывая, все вместе вернулись, по большей части, кучно. Один только кто-то, не помню имени, из сельхозотдела ЦК, на радостях вздумал вдруг чуток ревизию навести, коли уж на места выехал, как говорится – по всему, душу ему отвести хотелость таким макаром, не иначе. Вот, все восвояси в Москву, стало быть, а он наоборот – сел в поезд и айда почему-то в Волынскую область. Да не заезжая в центр – прямиком в Цуманский район, мол, по селам проехаться желает. Ну, ясно – местным руководителям такое, что гиря тебе с неба да на темечко. А делать нечего: начальство – оно есть начальство. Хочет по селам кататься – значит, придется кататься, не отвертишься. Вот идет он с секретарем райкома местного к гаражу, значит, и видит: стоят рядом с машинами два гроба новеньких, один побольше, другой поменьше чуток. Стоят они себе и стоят, никто на них не дивится: а сколотили их, стало быть, чтобы останки советских бойцов, в войну геройски погибших, на мемориальном месте теперь перезахоранивать – стройки идут в районе, аккурат на местах боев прежних. Ну, видит московский гость гробы и спрашивает:
– А это чё у вас тут?
– Обстановка в районi дуже складна, – поясняет ему секретарь. – Бандерiвцi по лiсах шастають. Не знаєш, коли на тебе бiда чекає... Оця велика домовина – першего секретаря райкому партiï, а он та меньша – моя... Так куди ïдемо?..
– Давай-ка до Луцка... который теперь час?.. я, поди ж, еще к московскому поезду успею...
|