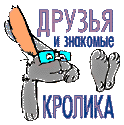

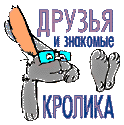 |

|
Первоначальный для поэзии звучащий текст давно перестал быть самодостаточным. Это вызвано изменением технологий порождения текста – севшие за компьютер поэты поневоле уделяют большее внимание визуальной форме стихотворения. В результате возникают новые визуальные принципы его бытования, основанные не в последнюю очередь на технических условиях воспроизведения текста.
Самые общие аспекты соотношения звуковой и письменной форм языка давно и подробно рассмотрены в статье Бодуэна де Куртене 1912 года [Бодуэн де Куртене 1963: 211]: "Между психическими элементами языка … нет никакой необходимой естественной связи, а имеется только случайное сцепление, называемое ассоциацией". Однако, возражая футуристам, он становится более радикален, воспринимая поэзию как звучащее искусство: "Связь букв, т.е. видимых элементов языка писанно-зрительного, с поэзией чисто случайная" [Бодуэн де Куртене 1999: 290]. Ассоциативные связи внутри естественной знаковой системы языка продолжаются и развиваются в ассоциативную составляющую языка поэтического, которая обнажает себя именно в визуальной форме текста [Фатеева 2006: 18]. Эта связь более уловима в современной поэзии, где есть немало опытов авторской рефлексии поэтов над системой языка, в том числе и над ассоциативным полем букв. Иногда поэты демонстрируют автономизацию буквы через единственно верное в рамках поэтического текста произнесение – староалфавитное название буквы, подсказанное метром и рифмой [Зубова 2000: 20]: "Встретишь в берлоге единоверца, / не разберешь – человек или зверь. / "Е-ё-ю-я", – изъясняется сердце, / а вырывается: "ъ, ы, ь"." [Лосев 2006: 540]. Н.Г. Бабенко считает, что «Образ буквы и стоящего за ней звука может функционировать в современной литературе в качестве уникального средства организации семантической композиции произведения» [Бабенко 2007: 128].
Буквы – это алфавитная система знаков языка, в результате использования которой получается текст любого объёма. Собственно говоря, визуальное явление, в котором не усматриваются буквы, мы не можем считать текстом, как объектом филологического исследования80. Буквенный текст простирается от однобуквенного текста до бесконечности. Латинский экспериментальный диалог - Eo rus – I (- иду в деревню - иди), содержащий в контексте диалога однобуквенную реплику, получил продолжение в двух однобуквенных поэмах (У – и Ю.) из книги "Смерть искусству" (1913) Василиска Гнедова [Гнедов 2001: 393]. В орнаментальном цикле "Простейшие" (1988) Анны Альчук [Альчук 2000: 46-55] одинаковые буквы образуют квадраты (ю, м, ф, п, о, ы, б, ж, с, а). Выразительность начертания этих букв обретает смысл на фоне самой себя, что родственно визуальным повторам слов и букв в поэзии Всеволода Некрасова [Некрасов 1991: 6]. Эти повторы могут рассматриваться как языковые слова, а могут восприниматься читателем как обращение внимания на структуру слова и понятия, чему способствует отсутствие пунктуационного оформления, указывающего на диалогичнность и интонированность речи:
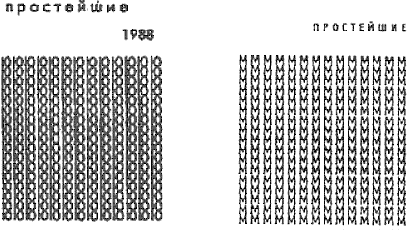
Луна
А
Луна
А
Луна
А
Луна
А
Луна
А
А небо
О
Другая интерпретация "Простейших" Альчук: зачёркнутый как бы на пишущей машинке, сложной по начертанию литерой поверх текста, нулевой квадратный, т.е. в традиционном представлении стихотворный фрагмент. Анне Альчук удалось добиться интерпретационной нечитаемости текста при возможности чтения всех его элементов, и эти поиски лежат в сфере букв, в направлении обнуления, дезактивации семантики буквы как языкового знака.
Сочетания букв могут составлять как существующие слова языка, так и окказиональные, потенциальные, заумные, а могут вообще не образовывать слов. Случаи однобуквенности как художественного приёма мы рассмотрели, языковой приём тоже имеет место (например, – А? в переспросе и - Я! в перекличке; центр алфавита тоже задействован; хотя однобуквенные слова редко бывают синтаксически самодостаточными). Однако при анализе латинского диалога, книги Гнедова и цикла Альчук мы имели дело с феноменом контекстной однобуквенности. Ещё один яркий пример контекстной однобуквенности – стихотворение Алексея Кручёных из одних гласных о е а / и е е и / а е е, приведенное в декларации [Кручёных 1999: 44], экспериментальное по сути, являет собой список гласных начальных слов молитвы "Отче наш", и, с учётом этой преемственности, интерпретируется именно как стихотворение из букв, не составляющих слова. Тот же уровень соотношения текстов усматривает В.Марков в стихотворении Кручёных "Вселенский язык", которое восходит к "Символу веры" [Марков 2000: 108].
Тенденций, связанных с буквами, в современной поэзии как минимум три:
1) Запись текста без заглавных букв и знаков препинания, в результате чего облик текста меняется, и приоритетные визуальные точки восприятия (начало строки, имена собственные и т.п.) меняют своё местоположение с формальных (начало строки, имя собственное) на смысловые;
2) Семиотическая разметка текста – обнажение аллитераций, рефренов, палиндромонов и других чужеродных элементов средствами букв, например, заглавных (самый простой пример – четверостишия Ильи Фонякова, включающие в себя палиндромические фрагменты, набранные заглавными буквами [Фоняков 2002: 35]:
Что с тобой, поэт? Был ты музе брат,
А теперь ты сед, ничему не рад.
После всех утрат речь темна твоя:
«Я НЕ МУЗЕ БРАТ – СТАР, БЕЗУМЕН Я»
3) Использование латиницы81 для записи текста на русском языке связано с:
а) документальностью текстопорождения (стихотворение произрастает из sms-сообщения, электронного письма, компьютерного файла82) и, следовательно, дополнительным свидетельством подлинности переживания. Вот несколько начальных сток стихотворения Андрея Дитцеля из книги «Пальцы» [Дитцель 2003: 31]:
>> Vsjo, vsjo budet horosho, ver' mne,
ja ne mogu ljubit' tebja inache,
ja dolzhen polnost'ju otdavat'sja svoemu chuvstvu,
inache by ja ne byl s toboy.
б) отчуждением83 части речевого потока, например, в силу эвфемизации.
Система заглавий в сборнике Натальи Романовой "Zaeblo" [Романова 2007] характеризуется фонетические экспрессемы, как в латинице, так и в кириллице: "Fashyzzm", "Жылезный круг", языковая игра "Slovoblood", смешение кириллицы и латиницы "Vitёк" при "Dyadi & tyoti", и смешение русского и английского языка "Sadovoparkovaya kultura" при "Gender culture". Отмеченные приёмы распространены в современной поэзии; они характерны не только для поэтики Романовой и встречаются не только в заглавиях.
Пожалуй, единственное действительно массовое явление в поэтическом языке, связанное с поэтикой букв, в настоящее время (хотя скорее оно лежит на границе ведения буквы и слова) – практически общепринятое у поэтов написание заглавной буквы в середине слова. Чаще всего так обозначается ударение, "когда текст экранен" [Чёрный 2001: 143], изредка такая запись используется в контаминированных образованиях с именами собственными, как, например, в поэме Вилли Мельникова "Фобософия": "КазБэкон с круч своих не скачет. / Дон Дерридальго брызжет пенкой. / Где дериЖорж Батайны прячет, / Там комисСартра рвёт за стенкой" [Мельников 2004: 3].
Помимо букв и состоящих из них слов, в организации семиотического пространства текста участвуют знаки структурирования текста на странице. В первую очередь рассмотрим место на странице, занимаемое стихотворением84. Имеющиеся в современных компьютерах способы расположения текста на странице имеют свою историю. Общепринятый левый край (левая выключка) – нулевой знак в этой небольшой семиотической системе. Можно добавить, что в этом случае актуализируется то же архаическое тяготение к некоему (перво)началу, которое провоцирует начинать каждую строку с заглавной буквы.
Центровка актуализирует перетекание текста из строки в строку, своеобразное наматывание его на катушку чтения, особенно если она усиливается междустрочными переносами. В современной поэзии она связана с именами Виктора Кривулина, центрующего многие тексты (адекватно это явление отражено в изданиях [Кривулин 1998; 2001]) и Михаила Генделева [Генделев 1995, 2003], центрующего все стихотворения. Важно отметить, что и авторское чтение этих поэтов опирается на такой способ записи текста. Текст, сгруппированный к центру страницы, являлся объектом специального рассмотрения в связи со строфикой И.Бродского (стихотворения «Фонтан», «Бабочка» и «Муха») в работе [Степанов 2004: 50-58], где исследователь усматривает визуальное сходство строфической организации с темой стихотворения.
Выравнивание текста по правому краю, введённое в обиход поэтом-сатириконцем Петром Потёмкиным в 1908 году [Потёмкин 1908] (вместе с частичным отказом от заглавных букв в началах строк, "если перед ней [строкой] не стоит точка" [Евстигнеева 1968: 260]) получило продолжение и развитие у имажиниста Вадима Шершеневича в поэме «Крематорий» (1918) [Шершеневич 1997: 254-276]. Этот приём проявляется во многих произведениях нижегородского поэта Ефима Манделя85 (р. 1937) [Мандель 1993, 1999],что было отмечено Ю.Б.Орлицким [Орлицкий 2002: 619].
Такое выравнивание могло бы служить для актуализации рифм (как, собственно, и предполагалось Потёмкным и Шершеневичем), однако в современной поэзии иногда выглядит как вёрсточный элемент создания контраста частей произведения (как, например в [Поляков 2003б] – пример ниже) и применяется не очень часто.
Сплошная запись текста зачастую сопряжена со знаками деления текста на строки "/" и на строфы "//", применявшимися ранее только для цитирования «в строчку» фрагментов стихотворного текста в критических и научных произведениях. Эти знаки получили активное самостоятельное значение уже отдельно от такой записи86 – во фрагментарных произведениях Ники Скандиаки [Скандиака 2007а] или в стихотворении Дарьи Базюк" [Базюк 2007: 17]:
а лицо без эмоций. почти.
а если и есть, то они тонкий кастрированный сигнал неотвеченного телефона.
// больше не вздумай появляться на моём утреннем гололёде
Ещё один пример сплошной записи текста, не вполне относящийся к собственно поэтическому языку, – опыты Дениса Осокина, располагающего прозаические авторские мини-книги в особой, тяготеющей к обоим краям листа, вёрстке. Авторская интенция сохраняется как в книге [Осокин 2003], так и в публикациях в журналах «Октябрь» (№5, 9, 2005, №11, 2006) и «Знамя» (№ 4, 2002). В результате этого увеличиваются межсловные пробелы, разреживается текст. По мнению Татьяны Семьян, такой полиграфический эксперимент достаточно близок поискам Генриха Сапгира [Сапгир 2000: 128-138], Сергея Завьялова [Завьялов 2003], Станислава Львовского [Львовский 1996, 2004] и многих других поэтов, стремящихся к интонационному увеличению пробелов [Семьян 2006а: 101] и превращению таких пробелов в своеобразный знак препинания, свойственный поэтической речи [Орлицкий 2002: 617]. Стихотворения Полины Андрукович визуально "размётаны" по листу бумаги разномасштабными пробелами87, и это заметно даже в моностихе: "что мы делаем? мы пьём воду в дождь" [Андрукович 2004: 104].
Визуальный отступ от начала строки – разновидность увеличенного "табуляционного" пробела – семантизируется, его употребление более не связано с задачей создания формальной визуальной упорядоченности текста. Начальный отступ в первой строке текста выступает в качестве заместителя начального многоточия, указывающего на то, что речь начинается случайно, неожиданно, текст фрагментарен по своей природе. У Андрея Полякова от текста, заключённого в скобки и отформатированного к правому краю, "отлипает" открывающая скобка [Поляков 2003б]88:
( хоть не рожден
водить глазами, лёгкими от книг
по улицам московских городов
под кущей Офиса, под сенью Магазина
Начальный отступ в середине текста семиотичен, он подчёркивает или затушёвывает параллелизм и аллитерации, как например, в стихотворении Дины Гатиной [Гатина 2004]:
Пошли, мам, Попьем кофею с морковью, с нашим взглядом. По шлемам нежным задом прокатилась содрала кожу прохожих просила подуть, подать просила искала суть впопыхах в лопухах, а всюду суть, где попало, где погладишь. Я усмиряла мышцу наклоном вправо, наклоном влево. Но криво, криво.
В современной поэзии существует "двухколонник", когда поле, остающееся на листе справа от текста стихотворения, используется самим поэтом для комментирования или развития имеющегося текста. Сплошной "соседний столбик" образуется в результате метрического комментирования каждой строки в некоторых стихотворениях цикла "Эпиграфы" Сергея Завьялова [Завьялов 2003: 71]:
Не остались ли III paeon hypercat
от этой страны только названья ad inv ad
невнятные рек да порой деревень 4 d cat c anacr
и как насмешка какая-то что ещё кто-то может 3 d pher
образовать какой-нибудь абессивный IV, II, III paeon
или комитативный падеж 3 anap
Фрагментарный "соседний столбик" используется для создания параллельного текста, диалогически связанного с первоначальным, как в некоторых стихотворениях Дмитрия Чёрного [Чёрный 1999: 27]:
| <…> А теория неба утешение вечностью герцен царь Эдип Алиса а миронов без театра не мыслю свою жизнь гамбринус ресторан Никитские ворота следующая остановка новый Арбат В свете розов кинотеатр повторного фильма Всё снова (сценарий умножить на время) Но запахи домов прохожих в жизнь не финская мебель в тоннель под больные деревья |
уважаемые пассажиры швейногардинное объединение тельмана действительноизкиецены |
|
Метро арбатская изящна крестовиной колонн Бордо и белым бордюр метро <…> |
|
Чтение тома "Девять книг" Виктора Сосноры, включающего, по словам автора, "девять моих книг, как я их сделал" [Соснора 2001: 5], демонстрирует любопытную визуальную динамику. В авторских книгах 1960-х – начала1980-х годов стихотворения выглядят привычным, достаточно традиционным образом. В книгах 1999-2000 годов [Соснора 2006: 754-852] встречается любопытная авторская интенция, касающаяся композиции текстов. В книге "Куда пошел? И где окно?" (1999) отдельные астрофические стихотворения напечатаны через увеличенный межстрочный интервал, что сделано для актуализации именно этих текстов в ряду остальных. "Флейта и прозаизмы" (2000) состоит из астрофических стихотворений, и все набраны через увеличенный интервал, некоторые набраны жирным; в изданиях [Соснора 2000; 2001] жирное выделение сохранено и в содержании, где текст именуются по первым строкам, в [Соснора 2006] содержание набрано без таких выделений. В книге «Двери закрываются» (2001) астрофический текст набран через увеличенный межстрочный интервал, как и в предыдущей, но без шрифтовых выделений.
Помимо текста в целом на странице может актуализироваться деление текста на части. Визуальный потенциал строфоидов современного стихотворения усиливается ненормативным использованием строфораздела. Ненормативность состоит, во-первых, в увеличении междустрофного интервала – вертикального пробела – в результате чего "смысловая многоплановость текста становится зримой" [Шубина 2006: 199]. Во-вторых, увеличенный интервал используется для сегментирования элементов, меньших, чем строфа, например, одной строки, или даже части строки, как в стихотворении Василия Чепелева [Чепелев 2004: 310]:
Меня дома с очередной попойки ждёт-волнуется мама.
Я хочу, чтобы во рту оставался честный вкус
Сигарет.
Мне очень дорог
Твой
Взгляд.
Мне крайне важен
Твой
Цвет.
В-третьих, междустрофный интервал может выступать в функции междустрочного и служить обособлению каждой строки стихотворения, замедлению чтения. Это явление наблюдается в некоторых стихотворениях Фёдора Сваровского – "Петя и пришельцы", "Звездные войны. ч. 4. В страшном кратере" и др. [Сваровский 2007: 271, 284]89. Однако его творчество интересно не столько этим, сколько тем, что иногда строфораздел разбивает слово, выделяя в качестве строфоида его часть, как, например, в стихотворении "В будущем" [Сваровский 2007: 268]90:
она не вернется
домой
на ужин
никто ей не нужен
город разрушен
стоит жара
и душно
мра –
мор
сухих
фонтанов
покрыт копотью
а внутри моча
К разговору о структуре текста стоило бы добавить замечания о структуре заглавия, которое в подавляющем большинстве случаев находится на своём месте (перед текстом), однако отдельные опыты в истории поэзии указывают на другие варианты. Известны заглавия отдельных стихотворений из сборника "Эшафот" (1913) Ивана Игнатьева, находящиеся после текста (Это называется "Метрополитен", А это "Тренировка") [Игнатьев 2001], также опыты Игоря Терентьева и Ильи Зданевича (1919), где заглавие находится под визуальным (шрифтовым) стихотворением, как подпись к картине [Терентьев 2002, Зданевич 2002]. Одно из известных стихотворений Кирилла Медведева, не имеющее заглавия, начинается строками "это стихотворение / называется / "всё плохо…", в содержании книги, озаглавленной по его названию, оно идёт как "это стихотворение…" [Медведев 2002]91. Пожалуй, у Кирилла Медведева мы видим наиболее нарочитый случай визуального сокрытия заглавия, переведения читательского внимания с заглавия к собственно тексту. Тенденция сокрытия заглавия многоуровневая, она выражается: 1) в отказе от заглавных букв в авторских версиях стихотворных заглавий92; 2) в использовании разного рода скобок, в которые заключается весь текст заглавия или его эквиваленты; 3) в помещении меж этих скобок многоточия или иного эквивалента текста, включая стандартные для стихов без заглавия три звёздочки.
При обследовании сайта polutona.ru, на котором представлены новые стихотворения современных поэтов, мы заметили, что у Ирины Максимовой (р. 1980, Калининград) и Анастасии Киселёвой (р. 1985, Минск) для озаглавнивания стихотворений используются эквиваленты текста — знаки «[***]» и «[...]», а у Александра Месропяна (р. 1962, Ростовская обл.) — знак «<...>». Поэты калининградской группы «РЦЫ» - Павел Настин (р. 1972, Калининград) и Евгений Паламарчук (р. 1978, Калининград) — заключают текстовые заглавия произведений в квадратные скобки. Например [где польша] (Настин), [суиZeit] (Паламарчук). Заглавия некоторых стихотворений Ильи Стронговского (р. 1982, Житомир-Киев) помещены между двумя дефисами.
Более сложная комбинация знаков организации текста представлена в заглавиях стихотворений Светланы Бодруновой (р. 1981, Санкт-Петербург) из цикла «Условные названия», где текстовая часть заглавия помещена в скобки, следующие вплотную за эквивалентом текста, указывающим на то, что текст не назван, — тремя звёздочками: например, ***(сестре) или ***(дождь). Заглавия стихотворений Кирилла Пейсикова (р. 1980, Москва), входящих в авторскую книгу [ctrl:zen], ограничены с двух сторон парными двоеточиями — ::Следы толстых женщин:: , ::Дано: Дин:: , ::Одиночество Видео:: . Этот знак препинания не встречается в системе естественного языка, он заимствован из языка программирования ALGOL, где обозначает «есть по определению» [Пратт, Зелковиц, 2002: 121].
Скобки, круглые, квадратные или угловые (а также иные ограничивающие эквиваленты скобок), в которые берётся весь текст заглавия, могут выделять текст, а могут указывать на сокрытие этого текста, позволяя интерпретировать его как один из вариантов некоей более обширной сущности. Возможно, что на интерпретацию написания заглавий в скобках (или в обрамлении функционально подобных им парных знаков) влияет способ записи ремарок в драматическом произведении. Возможно влияние и со стороны способа записи команд в компьютерных программах – и тогда заглавие получает значение «запуск чтения текста», а у скобок открывается семантика действия.
Скобки не только в заглавии могут становиться показателем вариативности чтения текста. В скобках может оказываться предлог: "медленно ищет встреча свое лицо / прикасаясь (к) сейчас теряясь во времени есть" [Уланов 2007] или даже пустота – не пробел!: "сколько раз менял() пол" [Нелеш 2003], тогда скобки указывают на вариативность прочтения текста.
Особое внимание в структурировании текста приобретают приёмы визуальной организации, не имеющие акустических эквивалентов. Примеры графической непроизносимой «клавиатурной» зауми встречаются с машинописных времен. Вот приближенный к произносительной зауми текст В. Казакова (1938-1988), написанный в 1969 году [Бирюков 2003: 457]:
Отторжение
13
вопрос: сколько?
ответ: никуда
босой как 94783
бог-ветер!
5556,4
Загурдаев Ю.
§+§+§+§+§+§+§+§+§+§
08112
№№№№№№№№№№№№№№№№№
вопросительный знак
№ 1
решетки для глаз
Заумные построения в этом тексте сочетаются с элементами поэтики абсурда. Некоторые понятия выражены не знаковыми эквивалентами слов, а словесными эквивалентами знака ("?") или изображения (предположим, такого варианта изображения решёток для глаз ### ###). Совсем непроизносимый машинописный пример из Бонифация [Бирюков 1994: 279] включает в себя знак параграфа, который надо воскликнуть:
еугаош щщзцоаджпхимтс бу
§ !
аок.ыб еев:вщщ"л мвн
ран/.в щщвщ з в:у н мчся итькг
х
пвн щщк.кны
Живущий в Америке поэт Михаил Магазинник выпустил книгу заумных стихотворений на русском и английском языках. В одном из стихотворений он называет персонажей "клавиатурными гаммами" — супердлинным набором символов, не похожим на языковые слова [Magazinnik 2004: 17]:
Ой гой еси, вышел как-то ншокцуцукыа из жилья,
а на встречу ему грозный
еенгтигшншргпаппрнгуы шагнул
кеджэоднегнеенгироке тогда случилась,
ой-вэй,
да и кенкыенкпрергнеыене больше не бывать-то никогда
Заметим, что помимо имён собственных, похожих на индейские имена, заумными клавиатурными комбинациями выражены нарицательные существительные. Текст выглядит согласованным синтаксически и сюжетным, в то же время комбинации букв способны принимать значение только из контекста.
В современной поэзии есть вариант представления кроссвордной записи текста через семантическое единство составляющих «кроссворд» слов, и с выделением букв, которые должны пересекаться, а не актуализируют созвучия. Вот стихотворение "Кроссворд" Елены Кацюбы [Кацюба 2003: 100]:
ПоцелУй пересекает кУхню в клетке У
и потомУ имеет вкУс лУка
В свою очередь луК
вместе с Картошкой
морКовкой
Капустой и
СвеКлой
пересекается с Кастрюлей
в клетке К
котоРая
в клетке Р
пеРесекается с боРщом
А
блины
и
сковорода
не пересекаются
потому что они параллельны
Однако, пересекается не всё, что могло бы пересекаться. Графические выделения присутствуют как в "логических", так и в "технических" словах (ими могут быть как служебные: потому, которая, так и знаменательные: пересекается). Блины и сковорода параллельны не только на уровне образа, связывающего понятия подобие формы, соприкосновение плоскостями. Слова «блины» и «сковорода» составлены из разных букв, соответственно, не могут пересечься в кроссворде. С. Федин называет такое явление "разнобуквицами", говоря об экспериментальном линейном жанре объёмом до 33 букв, где буквы алфавита не повторяются93 [Федин 2001: 181]. В стихотворении Кацюбы несовпадение, несоответствие формальных элементов усиливает смысловое напряжение (ещё одно значение: блины не прилипают!), что непривычно для поэзии, традиционно пользующейся повторами, совпадениями и пересечениями.
Выводы: В результате смешения притяжений текста к разным местам страницы и взаимодействия средств текстовой разметки получается синтетический текст, отражающий полифоническое мышление современного поэта. Иногда стихотворение визуально рассыпается для того, чтобы сложиться в уникальный, единственный, заданный автором смысл. Признаком стихотворности в настоящий момент времени служит не метрическая организация текста – и тут дело не в том, что верлибр и гетероморфность победили метрический стих – а внешний вид стихотворения, складывающегося из букв при осмысленном участии неалфавитных знаков организации текста. Стихотворная речь вынуждена визуализироваться, чтобы подчеркнуть не передаваемые на слух оттенки смыслов. Выразительные возможности сложившейся структуры языковых знаков для некоторых поэтов представляются исчерпанными, и поэты ищут выразительности во взаимодействии нестандартных приёмов организации текста.
Современная русская поэзия (1990–2000 годы), даже не авангардная и не визуальная, – поле для экспериментального поиска новых выразительных приёмов в области графики текста. Чаще всего встречаются тексты без знаков препинания и заглавных букв. Явление настолько частотно в современной поэзии, что такой тип текста попал в поле внимания филологов [Валгина 2004; Николина 2001; Фатеева 2006: 88; Шубина 2006]. До размывания смысла приёма, в поэзии 1980-х-1990-х годов текст без знаков препинания использовался для подчеркивания полисемантичности высказывания – в творчестве Г.Сапигра, В.Кривулина, Н.Искренко, А.Левина, В.Строчкова и др.
Наряду с использованием традиционных знаков препинания, а также наряду с частичным или полным отказом от них, поэты придумывают новые способы структурирования текста, широко используя возможности параграфемного оформления текста. Параграфемика и авторская пунктуация помогают точнее передать смысл высказывания: „Свобода в употреблении пунктуационных знаков относительна, поскольку она всегда сопряжена с появлением устойчивости, которая ведeт к понятию меры. Таким образом, сохраняется равновесие между состоянием системы и задачами, которые она должна выполнять в определeнных условиях функционирования" [Шубина 2006: 40].
Даже не в самых радикальных поэтических практиках, например, в стихотворениях Михаила Айзенберга (р. 1948, Москва) динамика авторского употребления знаков препинания, помогает дополнительному обособлению фрагментов текста, которые говорятся „от другого лица" или из другой ситуации говорения [Айзенберг 2004: 15]:
Вместе уснем и во сне закричим.
Вместе проснемся при полной луне.
Я холодею по ряду причин.
Большая часть остается во сне.
Встань между мнимых его величин –
с ним и со мной, протянувшись ко мне.
там санитарный идет эшелон
места хватает но все заодно
слезы о мертвом тоска о живом
Рама скрипит, и трещит полотно.
Только под утро кончается плен.
Тусклое облако встало с колен.
Никнут кусты. Отсырела трава.
Яблоня, пряча плоды в рукаве,
ветками машет спустя рукава.
В мокрой низине, в глубокой траве
яблоки спят голова к голове.
В середине стихотворения строфоид обособляется не только вертикальными пробелами93, но и отсутствием заглавных букв и знаков препинания94. У Михаила Айзенберга пунктуационному и строфическому обособлению подвергается не только строфоид, но и отдельные строки в середине или конце стихотворения [Айзенберг 2000: 26]:
Как тихий дождик на болоте
не ходит, сеется чуть-чуть –
тревога ложная колотит
и когтем задевает грудь.
Чтоб пожилому московиту
не разнесло грудную клеть,
пора забыть свою обиду,
свою отраду пожалеть.
А на кого моя обида?
На исчезающих из вида
все неизбежней, все быстрей.
На стаю легких времирей
«Стая лёгких времирей» – строка из известного стихотворения Велимира Хлебникова 1908 года, где нет деления на строфы. Два однородных ответа ('на исчезающих...' и 'на стаю...'), а в особенности точка перед вертикальным пробелом нарушают логическую связь, освобождая времирей от безусловной интерпретации в качестве объекта обиды. Обособленность этой строки относит её к стихотворению в целом – и даже к метафорическому началу первой строфы, сеющемуся дождику. Отсутствие знака препинания, завершающего текст, закольцовывает структуру. Закономерности, которые мы показали на примере частичного отказа от знаков препинания и семантизации вертикальных пробелов или строфоразделов, действуют в поэзии Айзенберга и на других уровнях поэтического языка (фрагмент стихотворения [Айзенберг 2004: 40]):
Ведь прежде, чем удариться в бега
на белых катерах и черных волгах,
он десять лет сидел как на иголках
и ждал, что – вот. сейчас. наверняка.
Точки в парцеллированной строке делят предикативную конструкцию на три, тем самым усиливая предикативность каждого элемента. Этот пример может быть интерпретирован как использование точки вместо запятой при перечислении однородных обстоятельств95. Заметим, что по смыслу эта строка может быть интерпретирована и как настоящее, и как будущее время, при этом слово „вот" указывает на реальность происходящего события, а слово „наверняка" - на его вневременную предположительность с большой степенью уверенности. Разновременные смыслы в этой конструкции и – шире – во всём стихотворении действуют синхронно.
Точки могут быть употреблены вместо запятых – чтобы снять языковую неоднозначность слова „вот", не перепутать его случайно со вводным словом-паразитом русского языка, которое отделяется запятой. Возможность интерпретации слова „вот" как служебного в этом тексте снизила бы остроту, напряжённость высказывания. Соответственно, нарушение условных правил ведёт к уточнению смысла. Часто в стихотворениях Айзенберга отсутствует точка или иной знак в конце текста, вне зависимости от наличия вертикальных пробелов, делящих текст на строфы [Айзенберг 2004: 42]:
Внешний вид уже не важен,
попрощайся с внешним видом.
Раздраженьем слезных скважин
и веселием испытан –
взгляд такой, глаза такие.
Но какой сезон охоты
на душе, однако.
Виды самые благие.
Больше ничего плохого.
Никакого мрака, что ты!
Никакого мрака
В соответствии с нормами русского языка, отсутствие знака препинания в конце текста – ошибка96. Однако поэтический язык ставит проблему логической незавершённости текста, и отсутствие знака, завершающего стихотворение, продлевает читательское ожидание продолжения97. Отсутствие знака выражает традиционный смысл многоточия – недосказанность. Однако, многоточие предполагает и другие истолкования, оно многозначно: «Наряду с общей, отделительной функцией, многоточие обладает целым рядом конкретных многообразных значений, чаще всего связанных с эмоциональной стороной речи, а отчасти и с содержательной» [Валгина 2004: 58]. В рассматриваемом примере это явление усиливается ещё и совпадением начал двух финальных строк. Многим современным поэтам нужны свежие указатели на семантику незавершённости в конце текста. Они пользуются не только отсутствием финального знака, но и разными знаками препинания (как нормативными, так и не очень) и их комбинациями, которые способны передать смысл незаконченного действия или продолжающегося состояния, или бесконечного текста. Стихотворение Владимира Светлова (р. 1973, Рига) «Чтобы» [Светлов 2004: 424] заканчивается запятой98:
ЧТОБЫ
гроб был, как картонная коробка
со стальными уголками
чтобы не обтрепались
лежать в нем свернувшись калачом
не холод но
одеялком накрыться, тепло
И не распиливайте меня на части
Я хочу оставаться знаком вопроса.
И не смотреть в небо - крышу, крышку
А ехать в этой коробке
В поезде
Не важно куда
Чтобы за окном картинки,
Вилли Мельников (р. 1962, Москва) использует не одну, а три финальных запятых99 или комбинации100, основанные на этом авторском знаке препинания [Мельников 2003: 76]:
* * *
Почувствовав себя свободным,
центр перекрёстка
отправляется в путь,
но никогда не бывает
в дороге,,,
* * *
Споткнувшись о радугу,
падает, сгорая в
нечистоплотных
слоях атмосферы,
курс doll'ара
к динарию кесаря!,,
Владимир Тарасов (р. 1954, Иерусалим) включает запятую в сложную ненормативную комбинацию знаков [Тарасов 2004: 399]. Это соотносится с одной из общепринятых интерпретаций смысла многоточия: «С помощью многоточия передаётся прерывистый характер речи, её затруднённость, вызванная большим эмоциональным напряжением. Это свойственно, естественно, художественной литературе и именно тем частям произведений, где передаётся речь персонажей. … Многоточие может прекращать повествование по воле автора, если это повествование представляется излишним по ходу развития сюжета или художественного образа» [Валгина 1979: 42]. Запятая на конце многоточия обозначает завершение паузы, вызванной им и немедленный переход к следующему действию101.
Назови меня велением жизни, -
сказала любимая мечта
об укрощённом завременьи
(вот она, на блюде лежит).
Я копаюсь в карманах..,
нашёл..,
спички.
Фокус в том,
как прикурить на ветру.
Тигран Туниянц (Тути) (р. 1979, Алматы) при употреблении нескольких запятых добавляет к семантике незавершённости иконическое начало [Туниянц 2004: 372]:
Ты осматриваешься вокруг,
выпустив коготки
ресниц ,,, ,,,
Запятые, сгруппированные дважды по три, откладывают завершение текста и визуализируются, усиливая метафору, так как эти группы знаков препинания могут изображать и ресницы, и коготки.
Большие табуляционные пробелы делают интонацию стиха преобладающей над ритмической заданностью и синтаксической упорядоченностью. Поэт Генрих Сапгир пишет об обусловленности такого пробела: „формообразующим элементом ритма у целого ряда поэтов начала века выступает слово под ударением или группа слов, как бы объединенная в единое целое. Чтобы выделить это слово или группу и отделить их от следующих, Маяковский, например, располагал стихи ступеньками. Таким образом появляются малые цезуры, которые акцентируют внимание на словах и делают интонацию стиха выразительней. При этом группы слов имеют одно главное ударение, что как бы приравнивает их к словам (их и читать надо как единое слово). […] Вот я и решил, что возможно в таких случаях записывать стихи "нормальными" строфами. Только каждое слово — с прописной буквы и — отделенное тройным пробелом. Книжная страница сохраняет привычный вид — а стих читается именно так, как должен звучать" [Сапгир 1999б: 91]. Вот фрагмент стихотворения «Наедине» [Сапгир 2000: 131], написанного в соответствии с вышеприведёнными принципами. Заметим, что Сапгир разделением текста на микросегменты иногда создаёт возможность для трансформации синтаксических отношений в тексте:
Вздор! По пьянке Тысячи историй
Где он тот В казарме Нет в конторе
В Сингапуре Смотрит на Париж
Как и не жил Где ты? Что молчишь?
Пробелы и переносы заменяют почти все знаки препинания. К концу стихотворения (а здесь приведена завершающая строфа) читательская установка направлена на то, что структурирующих знаков препинания в тексте нет. Интересна строчка „Где он тот В казарме Нет в конторе", которая может читаться как то, что персонаж воспоминаний одновременно и находится в конторе (т.е., он находится 'не в казарме, а в конторе'), и не находится там (если читать фразу, обособленную пробелом, как отдельную).
Поэты младшего поколения пишут ещё более неявно, преодолевая возможную неоднозначность прочтения непунктуационными средствами структурирования речи. Типичное стихотворение Полины Андрукович (р. 1969, Москва) выглядит намеренно разбросанным по пространству печатной страницы, а слова – случайно разорванными и столь же случайно склеенными [Андрукович 2004: 27]:
куда смотрит таю щий снег что смотрит на тающий снег куда смотрит тающия нет тающий аккордеон куда смотрит музыка тающего аккордеона теплее теплее теплее не сразу на кого смотрит тающий снег что делает тот, кто смотрит на тающий снег тает холодно-горячо теплее теплее теплеетеплее это здесь
Неравномерный отступ от края листа подчёркивает смысл стихотворения – таяние снега. Визуализация, как бы „расширение слов при нагревании", действует настолько, что между словами исчезает пробел, или просто за ходом мысли / образа следует ускорение речи/печати – и „теплеетеплее" пишется слитно. Представим себе, что все строки стихотворения начинаются с позиции начала строки: сразу обращают на себя внимание анафорические повторы, повторяются слова „куда", „тающий", „теплее". При разных отступах происходит деактуализация анафорических повторов — своеобразный минус-приём, отвлечение внимания от незначимых слов, оказывающихся в позиции начала строки в силу грамматических условностей строения фразы102102. Важно и то, что слова „это здесь" расположено под слитным „теплеетеплее", что напоминает детскую игру "горячо-холодно", где теплее всего рядом со спрятанной вещью или спрятавшимся игроком.
В стихотворении Игоря Давлетшина (1967-2002, Кемерово) Лист перед травой и слитная запись слов (голофразис), и запись слов заглавными буквами работают на обособление и сплочение между собой выделенных так элементов текста ('одно понятие' и 'название песни') [Давлетшин 2004: 186]:
сентиментальные мюзиклы
где чернаярубашкабезгалстука символ тревоги
и чей-то голос плачет
ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО
когда снимаешь трубку уличного автомата
Голофрастические конструкции могут объединять слитной или дефисной записью практически неограниченное количество графических слов – любых частей речи – в единый поэтический образ. В поэзии начала ХХI века голофрастические конструкции текст стали почти общепринятыми, и этим приёмом пользуются разные современные поэты. Дефисную запись, уравнивающую в правах слова по обе стороны дефиса, можно рассматривать как частный случай слитной записи слов. Л.В.Зубова характеризует этот же процесс как исчезновение разницы между существительным и прилагательным, определяемым и определяющим [Зубова 2000: 364-368]; заметим, что это родственно пониманию частей речи в некоторых европейских языках, где отличие существительного от прилагательного ощутимо только по синтаксической роли в строении фразы. Г.Н.Акимова указывает на использование дефиса как на яркую языковую тенденцию слития однородных членов [Акимова 1990: 155-156], интерпретируя это явление как не совсем однородные члены. В современной поэзии дефисная запись приобрела вид универсального выразителя пробельно-беспробельной записи текста (а чаще всего части текста). Записан через дефис может быть любой набор частей речи с любыми типами синтаксических связей. Н. Азарова считает, что дефисная запись в поэзии Геннадия Айги «равнополагает образ и понятие» [Азарова 2006: 73].103
Н.А.Фатеева приводит множество примеров голофрастических конструкций из современной поэзии [Фатеева 2006]. Есть версия, что голофразис является типом неузуального словообразования: "новые слова образуются на базе предложения или группы предложений…(возможно слитное написание)" [Изотов, Панюшкин 1997: 14]. К уровню словообразования относит голофразис и Н.А. Николина [Николина 2004: 93-95].
Помимо языковой истории у голофразиса есть и эстетическая история — опыты Василиска Гнедова и Василия Каменского наметили несколько эстетических тенденций для развития этого приёма. В стихотворениях Каменского голофразис, выраженный слитной записью слов, стирает границы между ними.
Слитная запись моностиха встречается у Леонида Виноградова [Виноградов 2006: 425]: "Тропинкаприлиплакботинку", где слитность записи является иконическим знаком, дополняющим смысл стихотворения. Иван Ахметьев сочиняет моностих из частиц, пишущихся соответственно одному из правил русского языка через дефис [Ахметьев 1993: 12]: "толибокоенибудь", где, помимо актуализации одной из языковых парадигм, сдвигаются границы морфем; возможно прочтение "то ли бокое нибудь" и т.п. Близко такому пониманию голофразиса творчество Александра Горнона, которое Б. Шифрин определил как морфемную волну [Шифрин 1993].
Вторая тенденция — буквальное предвидение тыняновской формулировки о «единстве и тесноте стихового ряда» — слитная запись слов в стихотворениях Василиска Гнедова. Слитную запись слов в стихотворной строке использовал поэт конца ХХ века Глеб Цвель [Фатеева 2006: 13]. Функция объединения слов сильна не только для актуализации и обособления строки в целом, но и для её части.
Выводы. Мы обнаружили, что в текстах разных современных поэтов на разных уровнях проявляется закономерная необходимость подтверждать смысловые отношения текста на графическом уровне. Языкового набора знаков препинания и традиционных возможностей их сочетания не всегда хватает для полноценного выражения индивидуального смысла. Это явление носит сугубо индивидуальный характер, однако основные тенденции вполне можно сформулировать: изменение пунктуационных принципов и применение средств параграфемной организации текста всегда обособляют ту часть текста, где наблюдаются эти явления.
Визуальная необычность части текста настраивает на восприятие фрагмента как логически противопоставленного остальному текстовому пространству. Иногда это обособление направлено на слитное (подобное фразеологизации) восприятие обособленных элементов (одной или нескольких строк, группы слов). Во всех рассмотренных случаях мы видим расширение арсенала выразительных средств стихотворной речи, направленных как на актуализацию, так и на деактуализацию вариантов прочтения текста.
В избранном материале – антологии «Девять измерений» – отсутствует тотальная установка на эксперимент в области графики, тем не менее представляется любопытным рассмотреть способы употребления заглавных букв104. Характерное свойство языка новейшей поэзии – индивидуальное осмысление формального элемента поэтической речи, его неслучайность в контексте стихотворения. Слово может начинаться с заглавной буквы или быть записанным полностью заглавными буквами (опознаваемыми не по размеру, а по виду литер).
В истории ненормативных заглавных букв в русской поэзии наиболее заметными и интересными представляются символистские и футуристические поэтические практики. Системное для некоторых символистов написание слов с заглавной буквы105 – это шаг от возвышения слова в символизме к его обособлению, автономизации, декларированной футуристами. Эго-футуризм занимался преодолением наследия символизма, представлявшегося эго-футуристам как доминирующая литературная стратегия. Результатом практики эго-футуристов стало ещё большее расширение списка слов, пишущихся в поэтических произведениях с заглавной буквы, которое уже не имело презумпции стилистического возвышения. Эго-футуристы устанавливали системные отношения между понятиями через их написание106. В рамках кубо-футуристической эстетики слова или части слов, записанные заглавными буквами, не всегда снабжались объяснениями или вступали в системные отношения. Заглавные буквы выделяют важный элемент текста (как, например, лейтслова Д.Бурлюка107) или произвольный элемент (как в текстах Кручёных и Терентьева108). Автономизация слова осуществляется с помощью средств, способных деавтоматизировать прочтение109, – в том числе и с помощью заглавных букв «не на месте».
Новейшая русская поэзия свободно наследует имеющимся традициям и вырабатывает новые условности. Н.А.Фатеева указывает на заметную особенность языка новейшей поэзии: «частое отсутствие заглавных букв в начале строк при отсутствии или индивидуальном использовании знаков препинания» [Фатеева 2005: 49-50]. Можно сказать, что таким образом сбылся прогноз Маринетти: «Слова, освобождённые от знаков препинания, будут озарять друг друга, скрещивать свои различные магнетизмы, следуя непрерывному динамизму мысли. ... Прописные буквы укажут читателю слова, которые синтезируют преобладающую аналогию» [Маринетти 1914б: 163].
Чаще всего у одного и того же современного поэта в разных произведениях действуют разные принципы графической организации стихотворения, демонстрирующие разную степень несоблюдения правил орфографии и пунктуации. Написание с заглавной буквы с целью возвышения стиля, категоризации понятий, как это было принято в поэтике символизма, встречается в стихотворениях Санджара Янышева и Ивана Волкова:
Востока – нет, нет – Запада, и Время –
Единственное Место для меня
(Янышев, «Ташкент как зеркало неверного меня...», [Девять измерений 2004: 53])
…зная бессонный нюх
Леса и Озера, Вечера и Тумана
мы подражаем повадкам зверей и птиц,
передавая друг другу дурные вести,
мы говорим по-совиному, по-соловьиному,
дети Стыда и Страха…
(Волков, «...дети Огня и Воды, с наветренной стороны...», [Девять измерений 2004: 76-77])
Наиболее любопытным продолжением символистской эстетики в рассматриваемой нами антологии является стихотворение "Лётчик" Марии Степановой [Девять измерений 2004: 290-291], где упоминается Небесная Дочка, мнящаяся герою – лётчику, ветерану афганской войны, и убитая женой этого лётчика. Здесь мы видим и расширение, и преодоление приёмов символизма. Небо для военного лётчика – не мнимая возвышенная сущность, как для поэта, а конкретное место в мире, связанное с воспоминаниями и сильными переживаниями. Дочка – разговорное, а не торжественно-возвышенное слово. В тексте Степановой не только само слово профанирует символистскую ситуацию (а может быть, «одомашнивает», делает не отвлеченным, а конкретным), но и описание внешности, где общемистические традиции соседствуют с традициями советского героического описания:
… её на рассвете видней,
всегда пионерская форма на ней.
Иссиняя лента в косе.
Заданное символизмом представление о том, что потустороннее где-то рядом, в тексте Степановой выражено буквально и конкретно. Герой гибнет от видeния Небесной Дочки в троллейбусе, а героиня убивает ни в чём не повинного человека, «девчонку 12 лет», совпавшую по описанию.
Андрей Поляков и Алексей Денисов немного расширяют список возможных слов, пишущихся в поэзии с заглавной буквы, добавляя к нему Автобус и Пепельницу. Вместе с дополнительной абсолютизацией начинают действовать законы смешения означающего и означаемого у Полякова и разрушение границ метатекста и текста у Денисова110:
И вот Автобус, часто-настоящий
несёт как царь, пустыней городской
тепло одной красавицы, не спящей
от слова Господи и слова далеко.
(Поляков, Всё, всё, что было выпрошено нами, [Девять измерений 2004: 49])
Теперь можно говорить о чём угодно.
Любовь, говорю, Смерть,
Пепельница, говорю,
полным-полна, говорю, окурков.
(Денисов, Идолище, [Девять измерений 2004: 363])
В стихотворении Ивана Марковского употребление заглавных букв служит для реализации распространённого приёма превращения несобственного в собственное.
Мы Взяли и Умерли
Я Взяли
Ты Умерли
Милая моя Взяли
Милый мой Умерли
Говорят нам вслед люди:
Вон идут Взяли и Умерли.
Умерли, ты прекрасная Пальма.
Взяли, ты смелый быстроногий гепард.
Слышно по вечерам над джунглями:
Умерли! Умерли! – это Взяли зовёт Умерли.
Слышно по вечерам над полями:
Взяли! Взяли! - это Умерли зовут Взяли.
Взяли, твоим именем назовут озеро.
Умерли, твоим именем назовут гору.
(Марковский, «Мы Взяли и Умерли...», [Девять измерений 2004: 218])
Формы глагола во множественном числе прошедшего времени, будучи записанными с заглавных букв, становятся именами – имеет место грамматическая транспозиция, субстантивация. Внешняя форма и контекстные особенности новообразованных имён не дают возможности однозначного выявления грамматического рода, а, следовательно и половой принадлежности персонажей. В тексте Марковского с заглавной буквы пишется и слово Пальма, тем самым происходит отсылка к истории с переводом Лермонтовым известного стихотворения Гейне – «На севере диком стоит одиноко...». В переводе из-за нарушения соответствия грамматического рода названий деревьев в переводе исчезает романтическая линия [Щерба 1957: 98]. Игра с грамматическим родом в тексте Марковского не дискредитирует, а обогащает романтическую линию.
Авторов, пишущих каждую строку в любом стихотворении с заглавной буквы, в антологии немного: не более 15%114. Это доказывает, что в современной поэзии обычай начинать каждую строку с заглавной буквы уступает место семантически или структурно обусловленным заглавным буквам. Часто заглавные буквы у современных поэтов служат для сегментации речи. Заглавные буквы принимают на себя роль синтаксического членения в текстах без знаков препинания. Это явление наблюдается в текстах Семёна Ханина:
меня застукали в полнейшей темноте
в компании таких же как я
случайных иностранцев Прошвырнуться
должно быть вышли они к морю и на дюнах
рассевшись друг у друга сигареты
стреляли
(Ханин, «меня застукали в полнейшей темноте...», [Девять измерений 2004: 159])
и Анны Горенко
Мама
Это только инстинкты Ты
могла бы меня задушить и лгать что на десять лет младше
(Горенко, «Белая пыльная малина как просто так...», [Девять измерений 2004: 243])
Автономизация чужой речи115 сопутствует упрощению пунктуационной системы. Вместе с синтаксическими процессами актуализируется мистическое или иконическое значение слов, записанных заглавными буквами.
прямой угол выложен жемчугом.
перламутр стекает в крупинку.
виток и виток: как расправить измятое пенное тело?
"КТО ОТКАЖЕТСЯ ПИТЬ ТОТ ДА БУДЕТ УТОПЛЕН НАВЕКИ"
карлица афродита покидает тесную раковину
длинные волосы опутывают по-улиточьи длинную ногу
вяло колышутся телоцветки морских ежей и актиний
заблудилась бездомная в садике водных камней
афродита-бонсай морская креветочья роза
мясомолочный тунец на каждом рассвете разбужен
зовом желудка под надписью в ихтиохлеве
"КТО ОТКАЖЕТСЯ ПИТЬ ТОТ ДА БУДЕТ УТОПЛЕН НАВЕКИ"
(Глазова, рождение в тунце, [Девять измерений 2004: 125-126])
В стихотворении Анны Глазовой о чужой речи нам напоминают кавычки, а заглавные буквы указывают на возможность крика и добавляют мистического содержания фразе116 – видно, что после первого её появления из текста исчезают знаки препинания.
Он командир потому что он отдаёт команды:
ПОДНИМИ МАЙКУ ПОКАЖИ СВОЁ ТАТУ
движение отработано до автоматизма
я скоро превращусь в евтушенку
о где мои красные польта и пиджаки из крокодиловой кожи?!
(Могутин, Паблисити, [Девять измерений 2004: 228])
В стихотворении Ярослава Могутина "Паблисити" речь идёт о фотографе, прямая речь которого, не терпящая возражений, записана заглавными буквами – уже без организующих кавычек, указывающих на прямую речь. Последующие строки лишены знаков препинания и тоже могут апеллировать как к описываемой в тексте ситуации, так и к самому строению текста117. Сравнение с Евтушенко, с человеком, который придумал формулировку "Больше, чем поэт", вызвано тем, что эта формулировка воспринимается Могутиным как "не только поэт, но ещё и представитель других профессий" (например, как в приведённом тексте, фотомодель).
Кроме нормативной функции обозначения начала сегмента текста и ненормативной функции обособления чужого текста118, заглавные буквы могут указывать и на завершение сегмента текста, как, например, компьютерная команда119 в стихотворении Алексея Денисова:
Чем бы закончить дурацкую метеосводку?
Разве цитатой, скрывающей некий туманный намёк?
Глупо, но всё же, но всё же, пою я, но всё же.
Ладно: Гораций, "Послания", книга вторая, мотор.
"Мы не летим с парусами, надутыми ветром попутным,
все же зато не влачим мы свой век и при ветрах противных.
Силой, талантом, красой, добродетелью, честью, достатком
Мы среди первых последние, первые мы средь последних" ОК.
(Денисов, «Здравствуйте, Лида!...», [Девять измерений 2004: 366-367])
Иногда сегмент текста может завершаться криком или сильно выраженной эмоцией, как в стихотворении Дмитрия Воденникова:
Ну встаньте же,
Архаров, Барсуков,
Воденников, Ершова,
Садретдинов,
Хохлова, Холомейцер, Хохляков,
Хмелёва, Яцуки… - НЕВЫНОСИМО!
(Воденников, Третья мировая, [Девять измерений 2004: 195])
В тексте Воденникова играет роль ритмическая организация списка собственных имён и небольшой отход от алфавитного порядка в их перечислении, связанный с ненарушением ритмической заданности120. Нам известно, что Воденников, Садретдинов, Хохлова и Хмелёва – имена реальных лиц, касательно остальных вопрос остаётся открытым – последняя фамилия в этом списке напоминает случайное движение по клавиатуре. НЕВЫНОСИМЫМ оказывается дальнейшее приумножение сущностей, оковы старой поэтики автора121. Можно воспринимать толкование НЕВЫНОСИМО ещё и как обозначение невозможности ожидаемого действия (встаньте) со стороны вымышленных лиц, а, следовательно, и существования в иллюзорном мире.Интонация, показанная с использованием заглавных букв, часто встречается у Натальи Ключарёвой:
Только вижу:
В зеркале, в луже, в витрине,
НИКОГДА НЕ В ЧУЖИХ ГЛАЗАХ,
Ни разу!
Неразборчиво вижу себя ...
(Ключарёва, «я не чувствую себя...», [Девять измерений 2004: 373-374])
Иногда заглавными буквами поэты выделяют слово интонационно и стилистически, подчёркивая эмоцию и отсутствие в языке нужного слова; пример из Ирины Шостаковской:
А потом мы встретили ЭТОГО.
Ленка с Шуриком видели затылок, а Германов вообще убежал.
Мне было с пистолетом нестрашно, я стояла и долго
рассматривала, а он стоял и никуда не смотрел.
Потому что у него со всех сторон был затылок.
(Шостаковская, 12 л., [Девять измерений 2004: 263])
У некоторых авторов в рамках одного текста выстраивается определённая система, орфографическая микроиерархия, внутри которой часть имён собственных пишется с заглавной буквы, а часть – со строчной. Например, в текстах Кирилла Медведева Лель – с заглавной, а москва, николай рубцов и бродский – со строчной (Медведев, [Девять измерений 2004: 214]). В текстах Виктора Iванiва: голос Лемешева, и несколькими строками ниже – володя пинигин (Иванив, [Девять измерений 2004: 250]). Псой Короленко пишет, что в текстах Шиша Брянского (он же Кирилл Решетников) действует своеобразная "эзотерическая орфография"; с заглавной буквы пишутся матерные слова и названия частей тела [Короленко 2003: 260]. В стихотворениях Александра Анашевича непоследовательное написание заглавных букв в именах собственных, свойственное его поэтике в целом, соседствует с нормативным написанием с заглавных букв при обозначении компьютерной терминологии:
Нажимаю Enter, вхожу в Интернет.
Enter: идут с бриллиантами волхвы
Enter: кто у Бога под сердцем?: мы
…
Enter: петербург изнасиловал ленин
Enter: особая благодарность фанайловой лене
(Анашевич, Новый файл: Predposlednee rojdestvo.txt, [Девять измерений 2004: 197-198])
Многократное немотивированное графическое выделение и орфографическое уподобление встречается в макароническом тексте песни Псоя Короленко «PiZZa», любопытен он и с точки зрения произнесения иноязычных аббревиатур – выявляемых по рифме (фрагмент текста на англ. яз.):
the piZZa from NY - you do a lot of work [нью-йорк - ДС]
the piZZa from LA – you feel like being gay [эл-эй - ДС]
...
the piZZa from piZZburg is just piZZa
(Короленко, PiZZa, [Девять измерений 2004: 144-145])
В стихотворении Елены Костылевой тематическое и стилистическое противопоставление между двумя частями текста подчёркнуто разной степенью системности в использовании заглавных букв.
Что-то было между словами, куда-то делось.
Дорогой, ты не видел? куда-то делось…
Ты о чём? – наподобие плёночек между органами, в животе.
Как-то раз они у меня воспалились.
Мустафа пришёл, поменял на новые, сделал.
Я спала, и они во сне воспалились.
Мустафа тоже был во сне, приснился.
Было потом уютно внутри так долго.
Ты не знаешь, куда могло подеваться?
Между словом и словом такая плёнка,
без которой всё дико и сбилось в кучу.
Нет, не видел не видел не видел жалко.
Всё сбылось кроме этого, вот ведь блядство.
Ладно, кекс, я тебя целую. Счастливо.
сегодня меня позже всех забрали из сада
неизвестно что было бы, если позже
эти тётки тушили свет и влезали в польта
всё нестрашно, кекс, всё смешно, кроме этих тёток
(Костылева, «Что-то было между словами, куда-то делось…», [Девять измерений 2004: 63]).
Елена Костылева известна как автор, подвергающий рефлексии способ записи поэтического текста122, поэтому для неё выстраивание формального контраста между частями произведения неслучайно. Структура стихотворения Костылевой уподобляется организму человека. В первом строфоиде фразы длиной в строку начинаются с заглавной буквы согласно строению предложений, единственным исключением является строка, которая объясняет, что случилось из-за отсутствия чего-то между словами: "без которой всё липко и сбилось в кучу". Второй строфоид, повествует уже не о потере границ (плёночек, рамок), а о возвращении в ужасный и мнимый мир детства, детского страха. Метафизический ужас детства является одной из общих тем современной молодой поэзии123, здесь он усилен ещё и деградацией поэтического высказывания с точки зрения поэтической техники, автор будто бы «разучился писать», и это соотносится с сюжетом стихотворения.
Использование заглавных букв может быть способом разделения слова на части, реализовывать потенциал автономизации частей слова. Иногда это нужно для актуализации анафоры124, как в тексте Игоря Давлетшина:
крупный дождь
МОчит
МОстовые
МОсквы
МОкко или арабика
(Давлетшин, много воды табака, [Девять измерений 2004: 170])
Иногда заглавные буквы актуализируют эффект произнесения слова по слогам, как в тексте Галины Зелениной:
Китайцы произвели революцию
в мировом Ки Не Ма
тографе
Теперь там всё не так
(Зеленина, Сентиментальный детектив, [Девять измерений 2004: 330])
Слово кинематограф, частично разбитое на слоги, реализует как анафорическое созвучие со словом125 китайцы, так и дальнейшее Не в Теперь там всё не так.
Иногда эффект деления на слоги дополняется «дописыванием» некоторых слогов. В стихотворении Полины Барсковой Садовник превращается и в Сад, и в обозначение абсолюта – Никто – записанный с заглавной буквы слог продлевается до значимого слова:
Кто он возлюбленный твой? Он - садовник
Он – Сад. Он – ов. Он – ник. Он – Никто.
И руки его темны как лечебная грязь.
(Барскова, Сад, [Девять измерений 2004: 113])
Выводы: Использование заглавных букв в современной поэзии чаще всего подвергается осмыслению. Иногда заглавные буквы оказываются заменителем нормативных средств композиционной и синтаксической организации текста. Заглавные буквы способствуют автономизации чужой речи. Слово, записанное заглавными буквами, получает дополнительную символическую и интонационную окраску. Слово, записанное без использования нормативных заглавных букв, получает дополнительную стилистическую окраску – обозначается: авторское отношение, или снижение стиля, или частое употребление, или равноправие с другими элементами текста.
Стандартная запись поэтического текста для многих авторов становится маргинальной. "Разбросанный", "неряшливый" способ записи служит обновлению поэтического языка. Именно в условиях пренебрежения правилами и традициями появляется возможность осмыслять и переосмыслять элементы структуры текста как значимые. Меняется смысл маркированности элементов. Расшифровка дополнительной графической, взаимосвязанной со смыслом, «структуры усложнения» [Давыдов 2003], иногда оказывается не менее важной, чем понимание всех слов, составляющих стихотворение. Эта графическая структура усложнения видится достаточно распространённой на современном этапе развития поэзии.
Часто заглавные буквы обозначают психологический, интонационный или выразительный предел. А в некоторых случаях – не только начало, но и конец текста.
Проблема выбора варианта, важная для постмодернистских практик, иногда решается с помощью зачёркивания текста при его письменном / печатном воспроизведении. Другие типы графического представления вариантов текста – например, дробная запись, встречается в письмах и художественных текстах с середины XIX века [Орлицкий 2002: 618-619]. Ещё современная поэзия для записи вариативного текста использует заключение части текста в скобки.
В стихотворениях Наталии Азаровой и Михаила Еремина используется принцип дробной записи вариантов текста. Азарова использует скобки, а Еремин – косую черту, поясняя, что это – знак дроби.
е
б ( ) га
о
не ускоряй [Азарова 2006: 85]
Одной из сосен был над заводью зеркальной,
Где в щучий бок вонзается багром
Засохший сук (Его обломит ветер
Лишь будущей весной.), замшелый ствол
Над замшевой от ряски лужей.
Пока еще здесь рыба и зверье –
Бог/р.* Числитель Он, а знаменатель –
Его, Ему, Им и о Нем.
1978
* [Бо гэ дробь эр.] [Ерёмин 1998: 13]
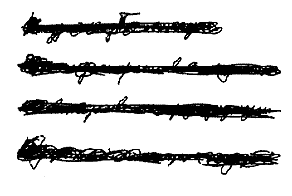 Игорь Давлетшин использует два варианта текста в следующих друг за другом скобках внутри слова: «sаn-marco как известно пи(щ)(цц)а для голубей» [Давлетшин 2005: 41].
Игорь Давлетшин использует два варианта текста в следующих друг за другом скобках внутри слова: «sаn-marco как известно пи(щ)(цц)а для голубей» [Давлетшин 2005: 41].
Наследовавший авангардистским поэтическим практикам поэт Владимир Казаков (1938-1988) написал в 1969 году "Прекрасное зачёркнутое четверостишие" [Бирюков 1994: 177], которое, по свидетельству С.Бирюкова – является чуть ли не самым цитируемым его произведением [Бирюков 2001: 160]. Оно исключает прочтение125a из-за рукописной зачёркнутости [Давыдов 2001]. "Стихи, слова и буквы возвращаются здесь к нерасчленимости чернильного пятна, кляксы" [Лощилов 2006: 432].
В дальнейшем зачеркивание фрагментов текста стало чуть ли не "визитной карточкой" поэзии Нины Искренко, в творчестве которой этот приём встречается с 1 половины 1980-х годов, вот фрагмент манифестарного стихотворения "Гимн полистилистике" [Искренко 2001: 33]:
Только любовь
любопытная бабушка
бегает в гольфах и Федор Михайлович Достоевский
и тот не удержался бы и выпил рюмку "Киндзмараули"
за здоровье Толстого за здоровье толстого семипалатинского
мальчика на скрипучем велосипеде.
Есть в творчестве Искренко и полностью зачёркнутый текст "Ура! и женщина Мария" [Искренко 2002: 4-5], часть строф которого зачёркнута построчно, часть – перекрёстным зачёркиванием одной или нескольких строф. Текст при любых (машинописно-компьютерно-символизирующих) зачёркиваниях у Искренко остаётся читаемым. Наиболее частотны зачёркивания при представлении вариантов текста, чаще всего разнородных стилистически, что образует конкуренцию в сознании читателя между зачёркнутым и незачёркнутым вариантами и создаёт иронический эффект.
Приёмом частичного зачёркивания текста пользуется и Елена Кацюба в стихотворении "Вальс цветов" [Кацюба 2003: 23]:
Суббота в больнице –
соглашение между временем и врачом
УМЫВАНИЕ РУК
СНЯТИЕ
С КРЕСТА ХАЛАТАВО ГРОБ В СТЕРИЛИЗАТОР
а завтра у нас воскресение –
живи ж!
В стихотворении Кацюбы в большей степени реализован рукописный тип зачёркивания, транспонированный в нерукописный текст – использование интерлиньяжа для приподнятой записи и уменьшение размера литер в тексте, надписанном поверх зачёркнутого. Надо отметить, что рукописный тип зачёркивания в современной поэзии встречается редко, чаще поэтический текст оперирует машинописными и компьютерными приёмами.
Машинописное зачёркивание текста, совмещенное с подчёркиванием и обусловленное смыслом текста, встречается в одном из стихотворений Всеволода Некрасова [Некрасов 1991: 70]:
жить как причина жить
как причина
уважительная
неуважительная
нужное / ненужное
зачеркнуть / подчеркнуть
Встречается полностью зачёркнутое стихотворение у Андрея Полякова, оно осложнено тем, что записано в строчку [Поляков 2003а: 115], и деление на строки вступает в конфликт с ритмической и рифменной организацией текста:
Вплывает битловатая гитара, а мы дымим и видим
Коктебель, приобретя в гостинице товары: буддийский чай
и христианский хмель. Психеи не найти в приморском
парке на празднике светящихся вещей, где любят
шелестящие подарки, заплаканных как братья тополей. С
античной юности жестоко обездолен, там каждый руку
жжёт как тонкую свечу.
А я… Я сам – Андрей, болтлив и недоволен: я денег
долларов и девушку хочу. Но кружатся стрекозы слюдяные,
горчит переведённая вода, и на бумаги наши дорогие
роняет крылья красная слюда. Христос как
человек китайской прозы, осенний свет рассеивает тут…
Читай, Господь. Буддийские стрекозы на крыльях кровь
Твою – не унесут.
Здесь конфликт ритма и синтаксиса [Эткинд 1998: 111], а также рифменной и строфической организации текста, усиливающийся «прозаической» записью, накладывается на конфликт композиционной ирреальности. Зачёркнутость приравнивается к несуществованию текста, а это произведение открывает раздел поэтического сборника. Такую же функцию выполняют несколько зачёркнутых строк перед названием стихотворного цикла Юрия Цаплина [Цаплин 2007]:
недетские ныне дети?
послушай, дружочек, этине помнишь, скажи, а где те
Cтихи о Зиме и Лете
Однако основная функция зачёркивания текста в современной поэзии – внесение поправки, декларирование в тексте не столько ошибочного варианта, сколько указание на то, что что-то произошло, и далее текст будет развиваться другим путём, как, например, у Александра Карвовского в стихотворении "Микрорайон 1а" [Карвовский 1992: 157]:
|
Старуха ударник тропическая птица частник зажженный шнур … старуха старуха |
взывающая о смерти проигрывающий дроби кличущая ю-и молотящий по жести шипящий в воздухе умиротворилась упокой Господи душу её |
Полина Андрукович отказывается от набранного варианта текста, не стирая его и не используя графическое зачёркивание [Андрукович 2004: 81]:
прос нет
прочитаем раз и навсегда неживая
неживая волна неживая война
неживая вр нет
неживая война нг нет
неживая война неживая волна радио
Выводы: Современная поэзия возвращается к хлебниковской невозможности выбора варианта продолжения текста, редакции произведения при неравнозначных эстетически исходных условиях и вариантах. Фиксация этой невозможности присутствует непосредственно в тексте, а не уходит на второй план, в примечание. Зачёркивание слова меняет его стилистический потенциал и информативность.
Зачёркивание произведения полностью единообразным методом усиливает его структурную и смысловую целостность. Зачёркивание разных частей текста разными способами актуализирует его композиционный потенциал. Зачёркивание части текста материализует смысл исчезновения, оставляя возможность читательского выбора между бытием и небытием.
Знаки точных наук считались важным средством организации поэтического текста для футуристов, актуальны они и сейчас. Цифры, числа, математические знаки и химические формулы являются общепонятными символами абстрактного рассуждения. Свойства семантики этих знаков, применимые в технических и естественных науках: однозначность, точность, конкретность смысла и т.п. в поэтическом языке трансформируются в иконическую или иероглифическую семантику, которая выявляется при расшифровке поэтического текста в целом.
Запись удвоенных согласных со знаком степени практикует Сергей Мэо [Мэо 1993: 26]:
Я напрямую, без стекла!..
Открою форточку гуман2о.
Рас
И вон, росинка потекла.
Использование математических знаков и цифр не просто как дополнительных средств поэтической выразительности, а в качестве элементов, формирующих содержание текста, происходит из авангардных поэтических практик. Н.И Харджиев назвал эти явления "внесловесные эквиваленты текста" [Харджиев 1997-1: 55] Эти знаки используются либо не в своей функции, либо не в своём стиле. Общеавангардную тенденцию декларировал Маринетти, в рамках сентенции об отказе от знаков препинания [Маринетти 1914б: 151]: «Чтобы подчеркнуть известные движения и указать их направления, будут употреблять математические знаки ? + : – = > < и музыкальные ноты.» На практике этот приём применялся Иваном Игнатьевым, который, по мнению В. Маркова, напрямую наследовал Маринетти [Марков 2000: 141-142]. Игнатьев назвал одно из своих произвдений "Opus + - ? :" [Игнатьев 1913в: 13], а в другом ("Третий вход") использовал мело-литеро-графу, т.е. текст сопровождали элементы нотной записи и уголки [Игнатьев 1913в: 7] (в поэме Маяковского «Война и мир» (1915-1916) тоже используется нотная запись126). В конце прозаического текста "Ассоид" [Игнатьев 1913г] помещен квадратный корень из а+b, а название ещё одного опуса [Игнатьев 1913в: 2] – 55 в 15 степени.
В статье Бурлюков "Поэтические начала" относительно явления того же встречается следующая сентенция: "Я понимаю кубистов, когда они в свои картины вводят цифры, но не понимаю поэтов, чуждых эстетической жизни всех этих ?, ~, +, §, ?, +, v, =, >, ? и т.д. и т.д." [Русский футуризм 1999: 56]. Наряду с "диковинными" знаками, русский авангард пользовался "нереальными" числами. Это явление наиболее актуально для эгофутуристов. Иван Игнатьев нумеровал стихотворения пятиразрядными числами [Игнатьев 1913в], Василиск Гнедов датировал тексты 1999 и 38687 годами по Р.Х. [Гнедов 1992: 54, 56]; он же писал о себе, что "ежеминутно / Владеет 8 000 000 000 01 квадратных слов" [Гнедов 1992: 58]. Сюда же можно отнести начало одной из поэм Маяковского "150 000 000 – мастера этой поэмы имя", впрочем, Маяковский базировался на цифре реального населения страны. В дальнейшем из числовой глобализации проросла числовая абсурдизация (явившая себя, например, в детском стихотворении "Миллион" Д.Хармса [Сабо 2005]), которая в современной поэзии выражается уже не вычислениями, а отдельным эстетическим жестом.
Одним из вариантов такого эстетического жеста являются два известных произведения Владимира Казакова – "Таблица умножения" и "Барбадосско-русский словарь" (оба текста датируются 1969 годом) [Бирюков 2003: 458-459], посвященные проблемам перевода одних единиц в другие. "Барбадосско-русский словарь", состоящий из перевода зауми (например, чигичинах) в агнонимы (например, подтемянный) заканчивается взаимопереводом чисел:
480……………….13
13…………………485
"Таблица умножения" являет собой абсурдный набор чисел и отношений между ними:
17 = 4 х 22
5 х 1 = 6
5 х 2 = Миллион
5 х 10 =
6 х 6 = 200
5 х 8 = 0
6 х 6 = 4
1 х 2 = 9?
7 х 0 =5839016,03
800 х 800 = 900
1 + 1 = 3
3 – 1 = 8 +
Сергей Бирюков так комментирует этот текст: "Здесь действительно можно предположить миллион трактовок, либо оставить всё без ответа, как в случае с 5 х 10. Это своеобразный поэтический трактат. Но о чём? Может быть, о пределах возможности познания" [Бирюков 2001: 160-161]. Миллион в этом стихотворении, как нам кажется, соотносится с упомянутым стихотворением Хармса.
Поэт "филологической школы" Александр Кондратов (1937-1993) использовал цифры и числа для создания рифмованных и ритмизованных текстов, используя фонетический и ритмический облик произносимой цифры для фиксации ритмических отношений [Кондратов 2006]. Приведём три текста, самый первый, где цифры перемежаются синтаксическими, а не математическими знаками, и два варианта таблицы умножения [Кондратов 2006: 353]:
Палитра
1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10…
21. 125.
130. 310.
500. 600. 1003.
5018.
3, 2, 1… 1, 2, 3!
17. 18.
1, 2, 3.
100 003
Пусть рыба смотрит хитро!
3 три, 3, 3…
Цыфирь – моя палитра!
Имитация таблицы умножения
2 х 2 и 2 х 2 –
282
3 х 3 и 3 х 3 –
383
5 х 5 и 5 х 5 –
585
6 х 6 и 6 х 6 –
686
7 х 7 и 7 х 7 –
787
Ложная таблица умножения
2 х 2
3 х 3
32 + 23
5 х 5
6 х 6
605 + 506
7 х 7
9 х 9
707
(909)
Ни в одном из приведенных случаев результат не является математическим, на что указывают тире вместо знаков равенства, "и" вместо плюса и т.п. В "Имитации таблицы умножения" результат получается в результате "дорисовывания" знака умножения до цифры 8, а если пренебречь завершающими некоторые строки знаками тире (функционально заменяющими знак равенства), то каждая строка выглядит палиндромом. В "Ложной таблице умножения" текст подчинен рифменно-ритмической инерции и палиндромическим отношениям. Никакого равенства, даже условного, в тексте не наблюдается. Предстающие нелогичными с точки зрения математики построения оказываются оправданы поэтической структурой, смысл которой близок к нулю — он абстрагируется до схемы ударений и рифм, и мы имеем дело с чистой формой. (Заметим, что записывать ритмическую основу текста цифрами или запоминать номера как ритмическую последовательность произносимых чисел — достаточно распространённая бытовая привычка).
Однако если в названии текста есть элементы, соотносящие с «нецифровой» темой цифрового изложения, то он воспринимается уже по-другому, постановка метафизических вопросов переносится в другую плоскость. Это явление мы наблюдаем в тексте современной поэтессы Кэти Чухров "Autobiography" [Чухров 2002: 22]:
17>25
"1+1=1"
"1+1=3"
3=2
1=2
1=2=3
7=0000000………………
Можно видеть в этом тексте интертекстуальные отношения с предыдущим, впрочем, возможно, переосмысленные современной рекламой распродаж, где формулы 1+1=3 (если речь идёт о вещах) и 1+1=1 (если речь идёт о деньгах), и приведённые ниже их производные равенства стали привычными. Первая строка, видимо, апеллирует к возрасту (в 17 всё интереснее, чем в 25) или к сумме цифр (8 больше 7), а последняя строка переводит цифру в соответствующее количество нулей, т.е. незначимых единиц. Формула или набор знаков как поэтическое высказывание встречается в современной поэзии не только в таком виде. Формульные тексты Максима Бородина из цикла "Вавилон" [Бородин 2003] записаны диктуемыми (т.е. словесными) формулами уравнений:
Окна отражают потоки воды, выбирая крайние из них
один минус
скобки
два икс минус один
скобки закрываются в квадрате
равняется
один минус четыре икс в квадрате
плюс четыре икс минус один
равняется
четыре икс минус четыре икс в квадрате
Стихотворение Алексея Верницкого «Жизнь не-буддиста - жизнь буддиста»127 являет собой два числовых уравнения, объектами равенства в которых являются слова «рождение» и «смерть».
Часть 1. Жизнь не-буддиста
рождение =
= 5·5·1920–2·12·2000 =
= 5·(1920–1915)·1920–2·12·2000 =
= 5·1920·1920–5·1915·1920–2·12·2000 =
= 5·1920·1920–5·1915·1920–(2000–1998)·12·2000 =
= 5·1920·1920–5·1915·1920–2000·12·2000+1998·12·2000 =
= 5·1920·1920–5·1915·1920–2000·12·2000+1998·12·2000 =
= 5·1920·(5+1915)–5·1915·1920–2000·12·2000+1998·12·2000 =
= 5·1920·5+5·1920·1915–5·1915·1920–2000·12·2000+1998·12·2000 =
= 5·1920·5+5·1920·1915–5·1915·1920–2000·12·(1998+2)+1998·12·2000 =
= 5·1920·5+5·1920·1915–5·1915·1920–2000·12·1998–2000·12·2+1998·12·2000 =
= 5·1920·5+(5·1920·1915–5·1915·1920)–2000·12·1998–2000·12·2+1998·12·2000 =
= 5·1920·5–2000·12·1998–2000·12·2+1998·12·2000 =
= 5·1920·5–2000·12·2–2000·12·1998+1998·12·2000 =
= 5·1920·5–2000·12·2+(2000·12·1998–1998·12·2000) =
= 5·1920·5–2000·12·2 =
= 5·5·1920–2·12·2000 =
= смерть
Часть 2. Жизнь буддиста
рождение =
= 5·5·1920–2·12·2000 =
= 5·5·5·384–2·12·5·400 =
= 5·5·5·2·192–2·12·5·2·200 =
= 5·5·5·2·2·96–2·12·5·2·2·100 =
= 5·5·5·2·2·2·48–2·12·5·2·2·2·50 =
= 5·5·5·2·2·2·2·24–2·12·5·2·2·2·2·25 =
= 5·5·5·2·2·2·2·2·12–2·2·6·5·2·2·2·2·25 =
= 5·5·5·2·2·2·2·2·2·6–2·2·2·3·5·2·2·2·2·25 =
= 5·5·5·2·2·2·2·2·2·2·3–2·2·2·3·5·2·2·2·2·5·5 =
= 5·(5·5·2·2·2·2·2·2·2·3–2·2·2·3·5·2·2·2·2·5) =
= 5·5·(5·2·2·2·2·2·2·2·3–2·2·2·3·5·2·2·2·2) =
= 5·5·5·(2·2·2·2·2·2·2·3–2·2·2·3·2·2·2·2) =
= 5·5·5·3·(2·2·2·2·2·2·2–2·2·2·2·2·2·2) =
= 5·5·5·3·2·(2·2·2·2·2·2–2·2·2·2·2·2) =
= 5·5·5·3·2·2·(2·2·2·2·2–2·2·2·2·2) =
= 5·5·5·3·2·2·2·(2·2·2·2–2·2·2·2) =
= 5·5·5·3·2·2·2·2·(2·2·2–2·2·2) =
= 5·5·5·3·2·2·2·2·2·(2·2–2·2) =
= 5·5·5·3·2·2·2·2·2·2·(2–2) =
= 5·5·5·3·2·2·2·2·2·2·0 =
= 5·5·5·3·2·2·2·2·2·0 =
= 5·5·5·3·2·2·2·2·0 =
= 5·5·5·3·2·2·2·0 =
= 5·5·5·3·2·2·0 =
= 5·5·5·3·2·0 =
= 5·5·5·3·0 =
= 5·5·5·0 =
= 5·5·0 =
= 5·0 =
= 0
В авторском комментарии к тексту сказано, что логика построения уравнений приводит в случае буддиста – к упрощению и опустошению, а в случае небуддиста – к определенной, хотя и усложненной логике. «Что касается жизни буддиста, то, очевидно, речь идет не о всяком буддисте, а о буддисте, достигшем просветления. Он доказал, что он «пустотен» (то есть, в рамках нашего текста, что он равен нулю, и упрощать дальше некуда), и поэтому он больше не родится и не умрет».
Михаил Ерёмин (р. 1937) в стихотворении 1980 года использует названия и обозначения химических веществ для выражения семантики цвета, что пояснено в авторском примечании [Ерёмин 1991: 99]:
Восход – не ворох алых далий
В телеге палисадника, доличное открыл
И облачил в оклад – по с прозеленью меди самоцветы:
В дали фабричное окно сверкает селенидом кадмия,
Чуть ближе – в парниковых рамах тёплый СоО,
И сразу за оградой – под левкасной шуйцей –
Полуторная окись марганца –
Над георгинами холодное стекло веранды.
____
CdSe, CoO, Mn2O3 – окрашивают стекло в оранжевый, розовый и фиолетовый цвета
СоО – [кобальт о]128.
Алгебраическая, геометрическая формульность, двоичный код программирования в конце текста свойственен Андрею Сидоркину в отдельных стихотворениях цикла "Non-finito" [Сидоркин 2006]:
opus d
никуда не годится мерзость это для вас
хризантемами бреются персики ситцевый вальс
миокарда духовка навстречу стерильному монстру
извергается вяленой женщиной кожаный остов
это тоже о ней извергается тоже о ней извергается тоже
этот глянец безветрия тоже о ней вы не видели может
близорукий предел определяется лишь для х → ∞ это
есть предел числовой последовательности f (1), f (2), ..., f (n),...:
A = lim f (x) = lim f (n).
x → ∞ n → ∞
Евгений Паротиков в стихотворениях "Про любовь" и "Машенька" [Паротиков 2007] использует переход вербального в считаемое или обозначаемое каким-то иным способом, и обратно. В стихотворении «Машенька» формула (может быть понятная героине, но не читателю) обозначает причину, по которой лирический герой должен расстаться с любимой.
Машенька
Этот вечер, этот медленный дождь,
Это застывшее осеннее время.
Машенька, я знаю, ты ждёшь,
И я постараюсь придти как можно скорее.
Я возьму твои руки в свою ладонь,
И зацелую тебя глазами;
И на щеках твоих вспыхнет огонь,
И мы коснёмся друг друга губами.
А потом я скажу: «Машенька, милая,
Сегодня я сам не свой;
Счастье моё, прости меня,
Но я не могу быть больше с тобой...
Я люблю тебя, как никто не любил,
Но мы должны расстаться, потому что
f = 1/ (exp[(W – )/kT] + 1)
dg(W)/V = 2(4d/h) = 4(2m) WdW/h
p = 2mW
dp = (m/2W) • dW
dn(W) = f (dg(W)/V) = 4 (2m) /h
= W[1- (/12(kT/W)]
U = 3NW/5 (1- Nv)
R = A/nq
f1-f2 = RIB/d
j = 1/p(Eкул + Eстор)
Er = Pr/2ewf =Pr/e
H = 2scosv / kgp
Uкол = Nhv /2 + Nhv exp (- hv / kT)
T = pra/L4m = 4pa/gM
U = gM/r
B = 2p/ecW/T
p = W/R = eо/2R
w(x,y,z) = A exp-i [(Wt/h - 2mWx/h)] + B exp[-i (Wt/h + 2mWx/h)]
Cv = dU/dT = 16pkUT/5hv = constT
D = exp(-2/h2m(U - W)L)
v = V/d = exp(-22m(U - W)L/h)
q = T + (B + S + C)/2,
Ну, в общем, ты поняла...»
В трехстраничном стихотворении Евгения Паротикова «Про любовь» моделируется многоуровневое разрушение структуры поэтического текста. В этом стихотворении учтён опыт развития поэтических приёмов ХХ века и приведена практически вся парадигма возможных эстетических вариантов лирического высказывания в современной поэзии.
Первые три строфы имитируют неумелые стихи с неточной рифмовкой и достаточно традиционной образной системой, четвертая и пятая отсылают к обэриутским поэтическим практикам, где ещё большее расшатывание поэтической формы (и формы записи текста — пятая строфа уже без знаков препинания) оправдано абсурдизацией содержания: «Рожаю ей младенца / В тарелку из-под супа». Следом за абсурдизацией смысла разрушается строфическая, ритмическая и рифменная организация: «Электронные жирафы не спешат / Магнитные поля редеют / Маленькие сердца восхищаются». Затем исчезают глаголы, и разрушается синтаксическая сочетаемость: «Красные обои уплывают / Не надо вовсе меньше / Украшенная разве через / Снаружи под обязательно / Белое конвейер чётно».
Следующий этап: переход к использованию редких, иностранных, окказиональных и заумных слов, приводящее к десемантизации текста: «Хрущёв табу наверное / Радагон було эспари / Гдыверь рутх абфы». Затем буквы перестают складываться в слова, и текст напоминает таблицу для проверки зрения, которая лишена семантики, так как функциональное применение её иное. Строки букв сменяются строками цифр от 1 до 9, записанных через пробелы в хаотическом порядке, затем несколькими строками нулей и единиц.
Это становится похоже на простейший беззнаковый двоичный код для хранения информации на электронных носителях (http://www.computer-museum.ru/technlgy/proclect/MP/cod.htm), разница лишь в том, что двоичный код — 8-битный, а здесь по 11 символов в строке. Затем следует 49 строк по 11 нулей. Если продолжить аналогию с беззнаковым двоичным кодом — то в нём одними нулями выражается самое меньшее число из возможных; в этом коде таким числом является ноль. И ещё 10 строк, в каждой из которых число нулей убавляется на 1 относительно предыдущей.
Постепенный переход текста в нечитаемое состояние, и постепенное исчезновение текста как линейной совокупности осмысленных знаков может отражать инерцию восприятия поэтического произведения, задаваемую формой — все буквенные строки начинаются с заглавной буквы, небуквенные сегменты текста до начала исчезновения имеют одинаковую ширину. Завершает стихотворение рифмованная строфа, повторяющая начальную строфу текста, которая теперь может восприниматься как осознанный эстетический выбор и как демонстрация круговой композиции текста. Смысл такого разрушения связности текста с последующим внезапным возрождением осмысленного поэтического высказывания — в моделировании разрушении мира до полного исчезновения. Это разрушение может быть связано с переживаемым сильным чувством, которое постепенно опустошает и истощает человека, и банальные способы выражения лирического переживания представляются несопоставимыми с силой нахлынувших эмоций.
Про любовь
На столе свеча,
Конфеты и вино.
Изгиб её плеча;
Так нежно и тепло.
Огонь в её глазах,
Шелка её волос,
Ресницы лёгкий взмах
И запах дальних роз.
Я так люблю её
И так хочу сберечь;
Она как райский сад
В сиянье этих свеч.
Вытаскиваю сердце,
Кладу его на блюдо,
Рожаю ей младенца
В тарелку из-под супа.
Снимаю всю одежду
И бегаю по комнате
Объедки от жаркого
Рассыпав во все стороны
Бросаюсь из окна
Мелкой подстреленной птичкой
Сползаю по тротуару
Скверно пахнущей первичной протоплазмой
Взрываюсь как грибок
Сверхсекретной водородной бомбой
Вымираю как генетически близкий питекантроп
На плоских пальцах Дарвина
Электронные жирафы не спешат
Магнитные поля редеют
Маленькие сердца восхищаются
Братские бутылки смеются
Литые диски сближаются
Космические пришельцы
Отменяют дверные ручки
Доктора наук пожирают клавиши
Семейства кошачьих торгуются
Сергей Есенин целует кирпичи
Прогрессивные скафандры молятся
Шизофреники называют меня гением
Уран и плутоний снова вместе
Красные обои уплывают
Не надо вовсе меньше
Украшенная разве через
Снаружи под обязательно
Белое конвейер чётно
Отнюдь стол стрекоза
Кроме фагоцитоз смущаться
Хмурость отлично искра
Спички двойная между
Сталинград лягушка губы
Феодализм бежать странный
Африка индеветь вишня
Может эфирная камень
Уравнение смотреть близко
Балансировать галактика сноп
Хромосома бережно либидо
Мироздание поле если
Пароль черепная кроме
Хрущёв табу наверное
Радагон було эспари
Гдыверь рутх абфы
Морудш вифер жомщим
Авхведдивф деы горум доу
Бвапуом езеулиыф хоган
Лимаретун дэоаон гванеуц
Ждгендаррс меф ксар
Нирабуб техвранмзд ыихз
Л ю р в г е п к в б о е в
Ж в ф г щ я г х ъ э о й ё п
Г ц й ь м ы е у с ы о б ю м в
Ъ о ч е у м и т ь у ё я ф ж
Ю а ц н с м ь у ы в а й я
Э а я т ь с я й ё у а п
Л с ц е и ё с я о е а с м р
Н ъ э о м и у ц ш з ж т н
Щ к ц б р т р с а п у в о л
И т ь ф у ю е а м ы ф й
Й а р у ъ м ч ц н ш п о в
Р ю ч щ з л п ы я м н у э
И л е с ш ж щ й ь ж п щ
Э л г и ф н й ё ъ д р м э
Ъ л э п у й ь ю м я ч д з
3 8 4 6 8 1 8 9 6 4 0
1 5 0 9 4 0 8 4 3 8 9
9 2 0 7 6 2 0 4 7 9 3
4 7 3 8 6 0 3 5 4 9 8
2 7 0 1 5 2 4 9 5 7 3
8 6 1 3 0 6 8 0 3 4 6
7 2 0 3 9 2 7 9 6 3 2
0 3 8 2 6 8 4 7 2 0 3
8 6 9 4 0 1 7 9 2 5 4
1 5 9 6 7 2 0 1 4 7 4
6 8 2 0 4 7 6 9 3 5 0
1 2 7 4 9 3 0 2 0 4 0
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1
1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0
0
На столе свеча,
Конфеты и вино.
Изгиб её плеча;
Так нежно и тепло.
2034 г., Амстердам
В заглавиях поэтических текстов математические знаки носят скорее орнаментальный характер, как, например, в цикле Владимира Тарасова "Негромкие песни Маджуна" [Тарасов 2007]. В одной из строф стихотворения Андрея Вознесенского "Нирвана" [Вознесенский 2000: 134] визуальная рифмовка разных неалфавитных знаков являет собой дополнительный вариант графического чтения, а рифменные пары указывают на верный вариант прочтения знака «параллельные», «второго»:
Над трамплином в небо смертельное,
как двуперстие на дорогу,
взвиты лыжины I I
словно путь Николая I I
Чисто цифровые, неформульные тексты, демонстрируют не меньшую меру абстракции, чем абсурдно-формульные, что мы видим у Ники Скандиаки в герметичном стихотворении, которое приводится полностью [Скандиака 2007б: 11]:
50
73
что ты будешь делать 5 98
.
parsnips parsnips
Таким образом, проникновение элементов точных наук в неизменном виде в поэтический язык является органичным и актуальным элементом обновления поэтической техники. Цифры в поэзии получают значение ритмических и визуальных эквивалентов текста, а знаки и формулы приобретают семантику иероглифического письма, которое необходимо комментировать индивидуально для каждого рассматриваемого случая. На примере текстов с цифрами и формулами становится видно, что знаковая система языка современной поэзии демонстрирует явную тенденцию к расширению, и поэтическое содержание может быть выражено без участия знаков естественных языков.
Некоторые визуальные приёмы поэтики современного поэта Валерия Галечьяна (р. 1947129) непосредственно связаны с поэтикой барокко. Влияние Симеона Полоцкого130 и современной ему поэзии барокко на поэзию Валерия Галечьяна носит глубокий и всеобъемлющий характер, так как отражается не только на графике стиха, но и на тематике, и на поэтической технике в целом. По наблюдению И.П.Еремина, поэтике Симеона Полоцкого было присуще "большое развитие разных стилистических "украшений", имеющих чисто орнаментальное назначение, нарочито затрудненная речь в результате необычной расстановки слов" [История 1948: 345].
На формирование поэтики самого Симеона Полоцкого повлияла виршевая традиция XVII века, в которой одним из организующих средств стиха была грамматическая, чаще всего глагольная рифмовка, уже в XVIII веке ставшая банальностью, и поэты уже тогда стремились её избегать, или, по крайней мере, не выдвигать на первый план. В поэзии Галечьяна с рифмой происходят как минимум две трансформации, выраженные на графическом уровне. Одна из них — тенденция к компактной визуальной записи рифмующихся элементов, вторая — наследование принципу алфавитного упорядочивания сущностей, одному из важных конструктивных элементов поэтики барокко.
Рифма в поэзии Галечьяна выглядит как визуальное объединение графических фрагментов слов в завершающей группе букв (окончание, суффикс или часть корня). Это может быть как горизонтальное (оси слова направлены вправо), так и вертикальное (оси слов направлены вниз) построение. Для поэтики В.Галечьяна характерны визуальная актуализация и объединение нескольких слов, "врастающих" в одну служебную морфему (виршевая рифмовка и есть уподобление типичных морфем, если подойти к этому же явлению со стороны языка). Остановимся только на одном примере этого явления с вертикальной организацией текста [Галечьян 1994: 63]:
у
о согла с овываю с
п о
р л м
е н
д о и
е т
л в е
е л
н ь
н
о
совершенную цель прогресса
Текст читается в нескольких направлениях, которыми записаны однородные члены или логические синонимы, слова, завершающиеся одними и теми же буквами. Линейное чтение такого текста возможно: согласовываю определенно / условно / сомнительно совершенную цель прогресса. Встречается в этом фрагменте и алфавитная организация текста - у строк, начинающихся с одинаковых букв (т.е. с буквы «с»), одинаковые отступы.
Рифмы, выраженные двумя рифмующимися словами, не сводимыми графически к одному концу слова встречаются в поэтических построениях Галечьяна нечасто131. Но одна из частей поэмы "Постижение" написана с использованием именно такой рифмовки и алфавитно-визуального совпадения начал строк, начинающихся с одной и той же буквы [Галечьян 2004: 469]:
не рождённый космос не вникает кого бездонным лоном порождает виды формы в свет направляя размещение на пространство слагает не так чтоб уж очень скучает втихаря молодняк наблюдает что-то себе отмечает высший дух за него размышляет направляет надзирает роль отца всех вещей исполняет зарождает оплодотворяет отбирает и расставляет наставленья готовых принять поучает добра зла борьбу наблюдает любовью разумом наукой
благие мозги наделяет там уж каждый свой путь обретает
Помимо рифмовки, в этом тексте архаичными предстают и некоторые слова (благие, поучает, наставленья и др.)132. Наблюдается противоречие между синтаксической структурой и графическим оформлением стихотворения за счёт немотивированного в рамках современной поэзии принципа деления на строки и неупорядоченного использования отступов разной величины. Принцип деления на строки и величина отступов действительно необъяснимы с точки зрения типичных поэтических приёмов конца XX-начале ХХI века. При таком подходе можно заметить только то, что важен размер отступа от начала строки и вызванные им вертикальные совпадения букв, ничего общего не имеющие с фоникой, и именно отступ является структурной основой текста. Эти же приёмы оказываются прозрачными при рассмотрении текста в диахроническом аспекте. В стихотворениях Галечьяна реализуются принципы организации барочного текста. Разбросанность превращается в стройность, и наблюдаемое нами явление родственно акростихам и акроконструкциям с одной стороны, и буквенной символизации с другой.
Рассуждения о специфике пространственно-рифменной организации поэтических произведений Галечьяна приводят к формулированию положения о дополнительной нелинейной урегулированности поэтического текста, усиливающей свою значимость при включении в запись текста компрессивных элементов133, влияющих на направление чтения текста. В случае повтора корневых морфем используется запись, основанная на возможности чтения снизу вверх [Галечьян 1994: 40]:
присоединяю собственные и л с ы к последним м . . . ям пуанкаре
Визуальный облик текста и заданное автором направление чтения показывают, как именно мысли Пуанкаре идут к мыслям Галечьяна, демонстрируя противоречие закону всемирного тяготения и вступая в конфликт с традиционным для русского языка направлением чтения «сверху вниз».
Возможность такого типа чтения можно связывать с общей установкой на эксперимент, а можно — с одним из ярких средств визуальной организации в барочных поэтических техниках — крестообразной записью текста. Крестообразная запись использует пересечения отдельных букв, составляющих наиболее значимые для понимания текста слова, – как в современном кроссворде, и актуализирует эти связи. Принципиальное отличие креста в поэтике барокко от креста в футуристической и современной поэзии – большее внимание к сакрализации смысла, чем к простоте / затрудненности восприятия и компрессии высказывания.
Галечьян затрудняет чтение текста пренебрежением к традиционным способам его записи. В частности, он использует контурный крест. Л.И.Сазонова пишет, что "Контурные, фигурные стихи приносили в поэзию орнаментальное начало, однако использование их не ограничивалось декоративной функцией украшения текста" [Сазонова 2006: 236]. Вот крестообразный фрагмент из стихотворения Валерия Галечьяна "Смирение" [Галечьян 2004: 41] (Я бы давно ушёл к ним. Но они все не зовут, читается с левого нижнего угла)134:
ним
.
к
Н
л о
е
о уш они
н в
вад н ес
ы е
б
з
Я о
в
. ту
В тексте Галечьяна направление чтения, задаваемое автором, трудноуловимо глазом и оказывается непривычным для читателя современной поэзии. В рамках современной поэзии предполагается, что непривычная запись текста обязательно привносит возможность дополнительного прочтения. На правомерность этого предположения в рамках современной поэзии указывает наличие термина "невертни" (термин Германа Лукомникова, образованный по словообразовательной аналогии с перевертнями) – "тексты, в которых палиндромичность сведена до минимума, до нуля!" [Антология 2003: 191]. В контексте антологии современных экспериментальных поэтических форм этот термин обозначает практически всю неэкспериментальную поэзию, нам же он нужен для точного обозначения сути явлений, на грани которых существует явление, рассматриваемое нами.
Элементы крестообразной записи текста в поэзии Галечьяна не исчерпываются вышеприведёнными примерами. Наряду с двумя общепринятыми в русском языке «слева направо» и «сверху вниз» он провоцирует чтение «снизу вверх» и «справа налево» [Галечьян 1994: 44]:
в
у
а
л
и
р
у
выявляюажанбо
у
р
и
н
и
б
м
о
к
Линейное чтение: вуалирую, обнажаю, комбинирую, выявляю. Этот пример сопоставим с известным экспериментальным крестообразным текстом поэта-эгофутуриста Ивана Игнатьева. Игнатьев в своём произведении добавил к традиционно имеющимся направлениям чтения текста круговое, изогнутое и справа налево (и не использует направление снизу вверх).
Выводы: Поэтика Валерия Галечьяна в контексте индивидуальных поэтических систем конца ХХ-начала XXI века в целом, как минимум, нетипична. Она характеризуется воспроизведением и актуализацией практически забытых принципов визуальной организации стиха, бывших единственно важными в момент зарождения русской поэтической традиции, на грани XVII-XVIII веков, однако с годами утративших свою неповторимую выразительность. С позиций современного состояния поэтических практик поэзия Валерия Галечьяна видится примитивнее, чем в диахроническом отношении.
В произведениях Валерия Галечьяна наблюдается наследование традициям грамматической рифмовки, выраженное на уровне графики текста, избегание повторов, "экономная" запись текста и упорядочивание записи строк по одинаковым буквам их начал, наследующее барочному принципу алфавитации, упорядочивания упоминаемых сущностей. Поэтика Валерия Галечьяна демонстрирует расширение списка возможных направлений чтения слов.
Основная проблема описания поэтики такого рода коренится в том, что современный текст остро нуждается в рассмотрении неотрывно от контекста той или иной традиции. Традиция литературного барокко, в соотнесении с которой была проведена интерпретация, общеизвестна, обширна и наглядна. Однако чаще всего исследователю (и критику) любых современных текстов приходится иметь дело с неочевидными традициями и с важным для рассматриваемого автора микроконтекстом, без знания которого исследователь обречён на неверные умозаключения и интуитивную оценку качества текстов.
Выводы из третьей главы: Мы рассмотрели различные типы структурирования текста в современной поэзии. Некоторые средства выразительности помогают целостному восприятию текста, некоторые усиливают композиционное противопоставление одних частей текста другим. В этом смысле любопытен список новых пунктуационных возможностей, призванных передавать смысл многоточия. Новой оказывается и математизация текста, и разного рода зачеркивания, которые призваны переосмыслить чтение и дезавуировать границу между чистовой и черновой записью.
Совершенно особняком стоит поэтика Валерия Галечьяна, которая может восприниматься в синхронном аспекте как случайный набор разрушающих текст явлений, а в диахроническом — как набор традиционных для поэтики барокко средств организации текста, моделирующих понимание текста как единства формы и содержания.
Рассмотренные явления не закрывают список возможных способов пунктуационного и параграфемного оформления художественного текста. Явления, связанные с ролью пустот и пробелов в организации поэтического текста, будут рассмотрены в 4 главе, подвижность и обратимость структуры, основанная на многозначности структурирующих текст элементов — в 5 главе.