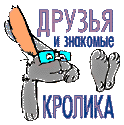

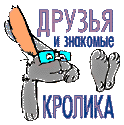
|

|
Фамилия, конечно, была у него совершенно идиотская.
Когда из военкоматной главной комнаты, где велся медосмотр приписываемых, позвали «допризывник Кастрюлец!» и на странном именовании запнулись, первой увидела его медсестра, в раздевалку, если голый юнец не появлялся, вызов повторявшая. Когда же он мимо нее прошлепал, она – бывалая девица – разинутый рот, которым собиралась произнести его фамилию, так и не закрыла. Пожалуй, даже сильней разинула. От изумления.
А всё потому, что с ним это и случилось, хотя – ни до него, ни после – ни с кем больше не произошло.
Врачи просто повалились от хохота, но тут же под взглядом председателя заткнулись.
– Заслонись чем-нибудь! – велели из построжавшей комиссии.
– Как? – тихо ответствовал одинокий голос допризывника.
– Двумя руками! Вдруг не видно будет, – хмуро посоветовал председатель, явный будущий убийца в белом халате. А еще один длинноносый сукоед распорядился:
– Капитолина, повесь ты ему полотенце!
Но медсестры Капитолины в просмотровке уже не было – она ушла курить, зато сбоку вякнул черненький врачишка по плоскостопию:
– Кастрировать Кастрюльца!
И все снова грохнули.
Перед комиссией стоял новый Приап. Растерянный и обескураженный. Притом юный. В недвусмысленном неправдоподобном облике.
Надо сказать, что среди подростков о приписном медосмотре во все времена ходили тревожные толки. Всех пугала необходимость появиться нагишом перед врачами, а главное – из-за очень даже возможного телесного возбуждения, – перед врачихами. Правда, кто-то врал, что врачих в комиссии не бывает. «Да?! Не бывает?! А у Пупка на одну с накрашенными губами прямо чуть не это!» – махали на него руками.
И это самое «чуть не это» грозило конфузом каждому, что тревожно и обсуждалось.
В раздевалке меж тем был холод предбанника, и кое-кто от особой этой зябкости и, конечно, от волнения покрывались гусиной кожей. По лавкам лежали брюки с низами в присохшей грязи и ниточных лохмах. Поверх были накиданы убогие – в белесых тайных следах – синие и коричневые трусы. Они же свисали с настенных крючков, но там еще виднелись майки, рубашки, сатиновые шаровары и тоже брюки.
Всё – рубашки, майки, трусы – было наизнанку. Как снято, так и оставлено.
Крашенные плохо высохшим суриком низкие лавки шли по обводу раздевального помещения, а перед ними стояла (или поваленная лежала) нечистая заношенная обувь, в лучшем случае скороходовская, но совершенно непонятная из-за многих починок. Из нее свешивались носки. Попадались и незабвенные в частую дырочку сандалии цвета воблы.
Пахло ногами и молодостью.
Кроме одежной мешанины, военкоматский предбанник заполняли голые туловища. Они перемещались, сквернословили и бросались в глаза прыщами, сидевшими среди высыпавших у кого как лицевых волос. У многих на пальцах и руках фиолетовыми чернилами были нанесены якоря, сердца или кривые буквы. Какие-то наколки были настоящие, но грубо выполненные, по виду – проступившие больные вены. Кто-то кому-то успевал дать коленкой под зад, но в голом виде это было не так интересно. Зад подростка, если он не в штанах, в общем-то, невелик, и пинок получается плохой. Кто-то ложным выпадом выбрасывал руку к чужому паху, владелец паха от броска уходил и ударял, конечно, задом в кого-то позади, за что получал удар ответный, но уже кулаком по веселой своей голове. Еще кто-то, покамест в трусах и обвислой майке, держал в злонамеренных руках огнетушитель и говорил кому-то уже голому: «Спорим, не работает?», и вот-вот могла зашипеть пенная проверка, то есть заплевывание всех, кто большой толпой озабоченно спрашивал вернувшихся: «У тебя не это?», после чего следовал вопрос: «Тебе “раздвинь ягодицы” говорили?» или в более понятной форме «Тебе в жопу глядели?» «Глядели», – опустошенно признавался спрошенный и шел к своим носкам. «А это дело не это?…» Но тот уже нахлобучивал носок, причем так, чтобы дырка, приходившаяся прежде на большой палец, пришлась теперь на мизинец другой ноги.
Вышеописанные недоросли весьма смахивали на долговязые водоросли (вот и возникла ценимая автором игра слов!) с двумя бросающимися на голом стебле в глаза несуразностями – головой и мужским побегом. Водорослей этих было два подвида – гладкокожие телесного цвета и пупырчатопокровные – те оттенка синеватого. Башмаки у лавок при таком взгляде представлялись неопрятными раковинами с дохлыми моллюсками носков, вывалившимися из разинутых створок по причине загнивания воды в умирающем этом затоне.
Водоросли по множеству причин колыхались, сгибались, сталкивались и отталкивались, шевеля ногами и оберегая свой компонент, а поскольку некоторые были повернуты спинами, казалось, что паховых отростков на всех не хватило. Еще ожидалось, что в подводную чащобу вплывет белорыбица женщины Капы с большими водоплавающими грудями, дабы метать среди изобильного нестерпимыми молоками нерестилища вялую бабью икру…
И вот чего все страшились случилось именно с ним, Кастрюльцем. Босой, несуразный, с большими ступнями и руками, он красовался сейчас перед гогочущим медперсоналом, не зная как быть. При этом бедняга смятенно глядел в лица комиссии, потому что, опусти Кастрюлец глаза, он увидел бы то, чем давно уже славился среди сверстников.
– Эх! – со своего места сказал еще один остряк со стетоскопом. – Ходил бы ты, Кастрюлец, при государыне Екатерине в фаворитах, смешил бы ее до слез, правда, Капа? Да куда она, черт возьми, подевалась?!
– Хватит вам смущать юношу! Он еще послужит Родине! – сказала врач-окулист, и все опять грохнули. – На, возьми полотенце! Перекройся! Проверим глаза.
– Нам бы тоже неплохо проверить, не грезу ли созерцаем! – снова ввязался чернявый врачишка.
– Всё, товарищи! Довольно! Проверяем зрение, молодой человек! Да притяни ты свое сокровище к животу! – голос ее вдруг охрип, поменял тембр в грудную сторону, но сделался раздраженный. – А то успокоительного дадим! Теперь гляди сюда, – раскрыв толстую книгу с рябыми таблицами, сказала она. – Какая цифра?
– Где?
– Здесь.
– Тут?
– Тут.
– Нету здесь никакой цифры!
– Не валяй дурака! А это какая? Держишь ты полотенце или нет?!
– Два.
– Правильно, а тут?
– Нету никакой…
– Как нету?! Вот же – четыре! Видишь, из зеленых точек?
– Где они зеленые? Когда красные…
На выходе его ждала курившая и глядевшая вдаль медсестра.
– Не расстраивайся, – сказала она. – Ничего тут смешного нет, а я, например, ничего не видела. Это нервное. В армию тебя не возьмут – Марья Иванна дальтонизм написала. Хочешь на Колхозной рубашку сшить? Бордовую в полоску? Еще могу ордер на бурки устроить.
И, передернувшись, повернулась уходить к врачам.
…А врачам потом всю жизнь было что рассказать женам и знакомым. Миф и легенда не умирали. Так что я тоже наконец собрался с мыслями и записал немыслимую жизнь нашего героя...
Через два дня Кастрюльцу пришла повестка: «Вам надлежит явиться такого-то к такому-то времени по такому-то адресу за получением выделенного на вас ордера».
Там, где бывает подпись военкома, стояло «медсестра Бордюрова».
Капу он разыскал по повестке в окрестностях завода «Калибр», где прежде ни разу не бывал, хотя «Калибр» был не так уж и далеко: сперва свалка, потом поблескивавшие битым стеклом пахотные земли колхоза имени Сталина, потом текла Копытовка, потом было что-то еще, а уже дальше серели твердыни завода.
– Хлеба с маслом хочешь? С шоколадным?! – спросила Капа. – Чаю выпьешь? Вот он ордер! (Она не обманула – бурки считались обувкой недостижимой.) Здорово, что зашел, а то я грустная сижу! – Капитолина безотлагательно приступила к освоению, а заодно и просвещению непуганого Кастрюльца. – Случай тут неприятный на меня подействовал. У одной медсестры, вроде меня, был парень, вроде тебя. Она с ним это… Ну, в общем, дружила. А он с другой кем-то, паразит, спознался. Ну она его на деньрождение позвала, медсестра то есть. Пили, закусывали. Легли. А он, пьяный, даже ее не это, не отодрал то есть. Взял и заснул. С другой, сволочь такая, смылился. Тогда она сперва в учебник поглядела, прокипятила инструменты, а потом взяла и кастрировала его. Но, конечно, антисептически. Очень медсестра была высокой квалификации… Понял историю? Вот не повторяй такого никогда.
Кастрюлец невозмутимо ел хлеб с буроватым маслом, хотя слово «кастрировать» уже слышал. На комиссии его говорил длинноносый врачишка.
– Ладно, не тушуйся, – поняв, что Кастрюлец ничего не вынес из ее сообщения, сказала Капа. – Чай тоже пей! Сахар бери! Лучше тогда анекдот расскажу. – Капа продолжила свою обволакивающую работу. – Один пацаненок говорит другому: «У меня мать с отцом, как спать лягут, сразу храпеть». «А у меня, – говорит второй, – на кровать за шифоньером завалятся и в лото играют. То батя, то мать "я кончил, я кончила” хвастают…»
И Капа на Кастрюльца, спросившего «ну и чего?», поглядела.
Снова чертов анекдот до него не дошел! Про первый раз сообщим дальше. А ему опять, как тогда, пришло в голову загадать загадку, что если взять и написать «улыбок тебе пара»? Но загадывать такое в гостях он постеснялся и уронил от неловкости чайную ложку.
Наклонившись ее поднимать, Капа прошлась рукой по Кастрюльцевым штанам, потрясенно на него глянула и раздраженно пробормотала: «Неправда, такого не бывает!», причем руки ее запрыгали и обнаглели… «Во как уперся! Штаны не расстегнуть…» – бормотала она, а потом словно взбесилась. Кастрюлец прямо растерялся.
– Вот тебе еще ордерок! – как ненормальная прохрипела Капа и задрала юбку. – Только не торопись, пацан, понял… А то отрежу… И слушайся, раз с медсестрой кувыркаешься… А я уж тебя натаскаю! – и завыла: «Уй-юй-юй!»
И Кастрюлец стал открывать и осваивать все какие есть проникновения и увертки, и оба принялись ощущать горячими женским и пацанским туловищами все бугры и вмятины Капиной постели, и внимать каждый голос каждой пружины пролежанного матраца. «Уй-юй-юй!» – а простыня с пододеяльником внаглую сбивались в непристойные комки, и чавкали подматрацные сочленения, и ездила под полосатым тиком тюфячная морская трава, и стон каждой пружины вызывал в колотившихся друг о друга телах два отголоска – по отголоску в каждом, а всхлип каждого сочленения – два ответных всхлипа. И учебе этой конца не было, ибо не было конца Капиному «уй-юй-юй», и не кончалось ее остервенение, и насыщение не наставало.
Крики и дикие звуки в дощатом домишке запроисходили целыми днями и всю ночь раздавалися там, по какому случаю стучали в стенку соседи, мол, дайте нам спать, медсестра, и тогда она рычала, если вообще кроме волчиного «уй-юй-юй» могла проорать хоть что-то еще: «Это вы дайте нам спать друг с дружкой, не то вашего щенка в пехоту сдам!». И стонущее крещендо свально спазмировавших матрацных пружин, едва она такое сказанет, знаменовало державный ответ страсти на застеночное холопское челобитье.
Постель для Капы была той самой объективной реальностью, которая нам придана, чтобы ощущать и познавать. Глаженая простыня приводила медсестру в одно исступление, скомканное постлание доводило до другого какого-нибудь неистовства. Даже роль прачечной метки была необычайна. То простынная эта метка чему-то не давала произойти, то, наоборот, заодно с меткой мучителя пододеяльника, что-то невероятным образом изощряла.
– Я от метки матку чувствую! (опять сама собой возникла игра слов!). А ты… а ты… а ты, Кастрюлец?! – бормотала Капа какие-то ненормальные то ли стихи, то ли нет. – Налаживай давай по новой каналью своего невыносимого, Ка-а-а-стрюлец-ц-ц!.. И она так распалялась, так над ним прыгала, что накрытого простыней остального Кастрюльца совсем некстати разбирал смех. Он чего только не чувствовал, но прачечную метку не ощутил ни разу.
Однако мы забыли врача-окулиста. От нее тоже пришла повестка. Тоже явиться. Но не в военкомат, а в Кастрюльцеву детскую поликлинику, откуда врач-окулист бывала вводима в приписную комиссию.
Вызван он был на самую поздноту. В субботу.
– Заходи, заходи, Кастрюлец! Проверим тебе глаза, а то я заопасалась, не ухудшатся ли их показатели настолько, что придется идти к профессору Авербаху. Кстати, что там у тебя, малыш, с первичным половым признаком? Давай-ка заодно поглядим… Все-таки становление организма… Извлекай-извлекай, не стесняйся, я же врач! О Господи! Чтоб настолько увеличенный! Анатомическая бестия! А цвет вполне... И это… становление организма... Ты почему так сразу возбуждаешься?.. Красный он от возбуждения…
– Где ж красный? – возразил дотошный по мелочи Кастрюлец. – Когда зеленый.
– Ой, какой ты дальтоник! – задохнувшись, промычала доктор, а потом, уставясь на него потемневшими глазами, рывком поворотилась спиной, взвыла, точь-в-точь как Капа, стала быстро пыхтеть и как ненормальная завопила: «Это неправда! Мама! Уй-юй-юй!»
– Чего, больно, что ли? – обмер испуганный Кастрюлец.
– Не прекращай начатых движений, иди-о-о-от!
И пообещала ему потом ордер. На костюм.
Кстати, о потемневших глазах. И вообще, о глазах. Сколько их в дальнейшем станет закрываться, озадачиваться, распахиваться, проливать внезапные слезы и по-куриному закатываться! И непременно темнеть. Впредь он подметит это у многих, хотя, как узнаем дальше, у некоторых – нет. У Капы они потемнели у первой. И получилось, что почти все будущие его подруги в какой-то момент обращались медсестрой с потемневшими глазами, а еще – с мальчишечьим лицом, когда мальчишка в уличном единоборстве, сопя и стервенея, сосредоточивается, чтобы одолеть противника.
Оставим же детскую поликлинику – гулкий к вечеру резонатор страстей ополоумевшей врача-окулиста. Скажем только, что отношения между ней и Капой испортились. Дело чуть даже не дошло до парткома, где Капе собирались поставить на вид, что она без причины выходит покурить и почему-то пропадает спирт.
А Кастрюлец во всем прочем был такой же как все. Рос как все. Пакостил как все. Поганил заборы и стены письменами. Передавал «горе-плакать» на того, кто подвернется. «Не брать, не рвать, вашу зелень показать!» соблюдал строжайшим образом. Не брал и не рвал. Завидев карету скорой помощи, хватался за черное. В школе ловчей других ухитрялся прижаться к телогреечной нянечке. Чудовищно жухал в «шахмотья» (так он именовал шахматы) и, обожая в них играть, убирал и подставлял пешки; учинял посредине доски рокировку, бешено настаивая, что так по правилам; ходил конем, как офицером, и победно орал «гарде!», хотя никакого «гарде» не было. Еще играл он в пряталки, в чет-нечет, в пристенок и, конечно, в знаменитых людей. И уж тут плутовал самозабвенно. До гробовой доски не забуду албанского партийного деятеля Стратоберду, которого он однажды как сумасшедший отспоривал. Представляете – Спиноза, Сталин, Стаханов и рядом с этими достойными именами нахально высосанный из пальца арнаут Стратоберда?!
Но зачем говорить, что где-то что-то, если прямо сейчас за кухонной оклеенной газетами дощатой стенкой в нашем с ним приземистом жилище увлеченный голос подростка, зная, что я на своей кухне весь внимание, горланит:
По аллеям центрального парка
С пионером гуляла вдова;
Пионера вдове стало жалко
И вдова пионеру…
– Понял, чего она? – кричит он из-за стенки, учитывая, что на его кухне с высокой керосинкой общается его мать, а на моей – с низкой – моя.
Я, конечно, куплет мысленно допеваю.
– Поля, нет ли у вас немножко лимонной кислоты? – кричит его матери через стенку моя. – Вы меня слышите? Не пой уже, чертова кожа!
– Немножко есть! Я выношу! – отвечает Поля.
Моя мать выходит из кухни на летнее крылечко. Его мать выходит из кухни на свое. Он и я видим их сквозь мутные, неотмываемые, залепленные крашенной суриком замазкой стекольца наших кухонь, и он теперь беспрепятственно запевает мало кому тогда, а сейчас тем более, известное продолжение. Мне тоже неведомое.
По аллеям центрального парка
Пионер провожает вдову –
Можно галстук носить очень яркий,
А вдову положить на траву.
Наши матери на крылечках, конечно, всё слышат. «Слышите, что он поет? У них же сейчас возраст!» – говорит моя мать его матери, но поскольку обеим охота узнать, что еще напозволяет себе паскудная эта вдова, замолкают.
Я же новым пафосом пионерской песни восхищен, так что ликующий припев мы с ним поем уже вместе.
Как же так
Вдруг вдова
Пионеру… о-о?
Не пойму, растолкуйте вы мне!
Потому что у нас каждый молод сейчас
В нашей юной прекрасной стране…
Да. Такой мальчик был.
И у него, конечно, был возраст. И конечно, снились ему положенные сны. Например, Пушкинский рынок. Причем без штанов.
О! Только в юных снах может присниться наш Пушкинский рынок совсем безо всего, но в телогрейке. Причем в той части, где под мешки торговок семечками с ледника, сотворенного еще в ноябрьскую холодину, течет талая вода. Голый и бесстыжий, куда обширней в сновидении, чем на самом деле, Пушкинский рынок с накрашенными губами и большими на своем крытом павильоне грудями распахивал и запахивал перед ним казенный ватник, отчего торговые груди сперва вываливались, а затем, толпясь, убирались назад. Народ меж тем, делая свои копеечные покупки, ничего такого не замечал, но Кастрюлец-то всё видел! И накрашенные базарные губы, и розовые буфера, и даже стальные зубы в рыночном рту! А вода под мешки подтекала и подтекала, талая и по-весеннему нечистая. И самое главное (чего, кроме Кастрюльца, уж точно никто не видел) – это что рынок пятился за огорожу дровяного склада и правильно делал! Место за тыном было глухое, и торговки семечками удалялись туда справлять нужду. Рынок, теперь почему-то в больших женских трико, явно отлучался за тем же, а павильонные груди, оттого что приспичило, прыгали на его телогрейке снаружи. Кастрюлец мешкотно торопился поспеть за пятившимся соблазном и одобрял, что рынок интересуется завлечь на дровяной склад именно его. А дровяной склад – подумать только! – взял и содрал с рынка лиловые трико и нахально натянул их на свои еловые ноги, которые сразу тоже сделались лиловые. Отлично! Кастрюльцу рынок был важен как раз без порток! Но тут появлялся кто-то лишний, а кто – во сне не разберешь, – похоже, мыловар Ружанский, шедший в аптеку за кальцексом, и рынок, чтобы Ружанский ничего не увидел, от срама усаживался голым задом на пенек перематывать портянки… И всё! Теперь к нему было не пристроиться… То есть Кастрюлец его не догонял… И конечно, просыпался. И каждому ясно в каком виде…
Однажды в гости к родному дяде, жившему через две заросших травой улицы, приехала откуда-то из Симферополя племянница и собой, далеко уже зашедшей в созревании, изобильно добавила в и без того горячее в тот год окраинное наше лето южной пылкости и захолустного бесстыдства, поскольку не хотела показаться хуже московских. Была она чуть постарше Кастрюльца и, появись годом позже, Кастрюлец бы ее уже не интересовал. А пока еще интересовал. А она его – очень. Ноги у нее были загорелые. Платье на ней было ситцевое. Губы обветренные и в сухих трещинках.
– Пошли за дрова губами целоваться – сказала она, и в закутке за дядиным топливом, закрыв глаза, приоткрыла рот. Целоваться Кастрюльцу до этих дров не приходилось, и он с непривычки стал тыкаться в ее нижнюю девчачью губу.
Забор у дяди был сплошной от богатства, сам дядя был на работе, так что в глухом этом бастионе детства, за благоухавшей смоквами разогретой поленницей они были совершенно сами по себе и сразу начали рассказывать друг другу все стыдное что знали. Над ними стояло голубое небо, а в его сияющей высоте ходил пущенный с какой-то из наших улиц змей – змей же в подобных историях ясно зачем. В соседнем дворе у скворечника чернелся скворец, и загорелая девочка с обветренными губами быстренько научила Кастрюльца называть скворца по-правильному – «шпак», а потом сказала: «Давай анекдот расскажу. Один хлопчик говорит другому: У меня тата с мамой, как на ночь лягают, сразу храпят”. А у меня, – отвечает другой, – как спать пидут, так цельную ночь в лото играют. То тата говорят, то мама: “Я кончил! Я кончила!”» И она глянула на Кастрюльца, не понявшего в чем соль и спросившего: «И чего?»
За симферопольский анекдот не обидевшись, она стала хохотать, а он, в свою очередь, написал щепкой на земле «улыбок тебе пара» и спросил: «Чего написано?» Но девчонка оказалась недогадливая, и Кастрюлец, отвернувшись, велел: «Ты сзаду читай!» Она вслух прочла, ни капли не смутилась, а наоборот, сказала:
– Вот еще! Для этого женщины применяются! Давай лучше друг другу казать. Чур, я первая! – И разомкнула облупленные горячие ноги. – А теперь ты! Только не плутничай! Во-о-о какой лобан у тебя, я таких и не видела! А теперь я подольше. А теперь вместе. Раз, два, три!
Они сидели на опилочной земле, сопя и уставясь на безволосые тайны друг дружки.
– В меня, как все равно в кобылку твою, тоже вставляться можно. Только выкинь это из головы, потому что я кое-чего дожидаюсь. А его тогда не пойдет. Лучше давай трогаться, ты мое, я твое. Только за пазуху не лезь! Там сейчас больно…
Чтобы оказаться для своего намерения рядом, она пересела, уперла в опилочную землю пятки, протянула руку к Кастрюльцу и стала двигать кулачком взад-вперед, а сама выпячивала низ живота, сильно шевеля им тоже.
– Когда вырастем, – громко дыша, показывала она, – вона куда надо будет его ховать! В самый абрикосик! Только ты не надейся, а то жениху не понравится! – И задвигала кулачком быстрей. Невероятная жуть стала нарастать в слободском низу Кастрюльца. – Во! Он же ж у тебя живой… Он твоя собака… Карацупа кусачая… Напускай давай! Напускай!.. Напустил! Напустил!.. – А под животом у Кастрюльца полыхнул белым пламенем весь какой есть магний самолетной свалки и запенился весь карбид, брошенный во все школьные чернильницы, чтобы впредь в целой жизни такую ошеломительную панику в своем теле больше никогда не почувствовать.
Потом, когда он плелся домой, ему казалось, что из туловища что-то исчезло – не то кишка, не то глист вышел.
Еще она сказала: «Ты после обеда завтра не приходи. Я тут сперва буду вся на солнце загорать, а потом вспотею и с мылом помоюсь – мне так мама велела».
Назавтра после обеда дядя, прикинувшись, что идет опоражнивать урыльник, тоже затаился подглядывать и опозорил его, облив содержимым ночного сосуда. «Голодранец, – орал дядя. – А еще пионэр! Я в твою организацию сообщу! Я в газэту напишу!»
А симферопольская девочка, вся из меда и воска, не закрываясь стояла безо всего на ярком солнце и хохотала, поливая себя спереди – с восковой пчелиной шеи, прозрачной водой из ковшика…
Смердящий дядиным урыльником Кастрюлец пробирался огородами к дому, понимая, что с крымской гостьей ему за дровами больше не бывать и что дядя должен за унижение поплатиться.
Первое, что пришло ему в голову (и всякому бы пришло, и мне бы пришло!), – это убрать из-под дяди, когда тот будет садиться обедать, стул. При пузатом своем весе дядя с коротким криком саданется об пол – они же как раз недавно проходили «С коротким криком он пал на землю». Но дядя и так обещал написать в «Пионэрскую правду», поэтому отомстить следовало чужими руками.
Подбил он на это злоумышление двух проживающих возле парка огольцов, которые на вопрос «Ребя?!» ответили «Чё?» «Дрожди у вас дома есть?» «Ну. У бабки. И чё?» – ответили припарковые. Он им объяснил и услышал: «Дашь на велике прокатиться, тогда ладно!»
Мы забыли сказать, что был он из семьи небедной, и девочкин дядя орал «голодранец» зря. У него был даже велосипед, а значит, заветные упаковки самогонных дрожжей числом девять с кусочком были теплым вечером вброшены припарковыми бициклистами в выгребную яму врага.
На сбраживающую деятельность ушла ночь, тоже теплая, и наутро дядин двор покрылся ничего себе слоем известного всем паскудства, причем оно не прекращало поступать и пускать из себя пузыри. Выйдя поутру и втянув мерзкого воздуху, дядя машинально шагнул со ступеньки и сразу увяз. Ничего еще не понимая, но сразу подвернув штанины, он стал, производя миазмические чавкания, вытаскивать по очереди ноги и, словно на ходулях, достиг сарая, ибо вернуться домой и для очистных работ переодеться, чтобы ничего в дом не натаскать, уже не мог. В сарае дядя обулся в старые галоши и теперь, выпрастывая ноги, задыхаясь от нездорового воздуха и, совершенно не постигая, что оно такое и кто мог столько этого за ночь образовать, выпучив глаза, бессмысленно перемещался по двору – то к калитке, то к задворочной будке, то к солнечному лоскуту за дровами, где, конечно, уже не схотит мыться, когда снова приедет, племянница.
А за высоким забором стоял и глядел в щелку дядин сосед, проснувшийся с петухами, потому что в дому от левого проживающего стало вонько. Был он не менее дяди потрясен таинственным событием. Быстренько заложив заборный низ фанерками, сосед злорадствовал, что дяде ничего, кроме как зарыть это необъяснимое габдо, не остается, для чего надо будет обязательно перекопать весь двор лопатой. Правда, если потом целиком посеять укроп, – он такую землю любит.
Ну и ну, беспутный мой Кастрюля! Уж мне-то известно, что озорство твое не знало удержу и уморительную пакость ты, будучи наделен шутовским характером, умел подстроить как никто. Причем неотвратимо. Когда же ты подрос и на первый план выдвинулось обладание кунсткамерной мужской снастью, тебя, трубя в перламутровые скользкие раковины, призвал в победоносные первопроходцы и мореплаватели океан любви, и, если намечающиеся наши подруги всегда идут дальше поцелуев в третью от знакомства встречу, Кастрюльцу все доставалось сразу. Робко и сперва без умысла прильнувшие к нему девушки уже при первом сорванном с их уст поцелуе напарывались на что не напороться было нельзя, и в замешательстве прекращали быть ни на что не согласными, и забывали положенные проволочки, и шептали «Что это?», уставясь потемневшими глазами.
Однако по порядку.
Итак, главной страстью Кастрюльца в детстве и юности были разные каверзы и розыгрыши, тогда называвшиеся «покупками». Пребывал он в желании надо всеми глумиться – постоянно. Причем затеи его были неисчерпаемы, а проделки беспощадны и часто непростительны.
Самая нехитрая: тихонько подкрасться и неслышно встать за спиной какой-нибудь старушечьего возраста соседки, предварительно заложив себе на верхние зубы раздобытую где-то вставную челюсть, отчего лицо его, и без того дурацкое, совсем идиотизировалось, меж тем как голос, идущий из живота, внезапно блеял: «Буэ–ээ». Результат понятен.
А сколько поубирал он из-под меня, и не только из-под меня, вышеназванных стульев! Сколько раз с неистовым криком, от которого все внутри холодело, выскакивал из-за притолоки, когда ты беспечно отворял дверь!
Еще он рисовал на зеркалах – и у себя, и на соседских – узким плакатным пером тонкие изломанные линии (сейчас такое легко проделать фломастером – попробуйте, не пожалеете!). Умелая линия отбивалась в амальгаме, и отражение с изображением получались в толще стекла непоправимой трещиной, а трещины в зеркале, как известно, к смерти хозяина.
Сколько же от его паскудной руки потрескалось в свое время зеркал и сколько по этой причине ожидалось смертей! Однако никто ни разу не умер. А зеркала как целыми были, так после оттирания трещин целыми и оставались и висят в наши дни на чьих-то неведомых стенах, но никто из тех, кого он разыгрывал, в этих зеркалах уже не отражаются, потому что, оказывается, все так и так всё равно умерли.
Еще прибивал он в чужих жилищах (мы же запросто околачивались в домах друг у друга) к полу галоши, и сунувший в них ноги при попытке шагнуть валился лицом на стоявшую в сенях бочку с квашеной капустой и мог о квашеную капусту расквасить себе нос.
В промозглые дождевые вечера Кастрюлец подвешивал на нитке к чужим окнам картофелину, и за мокрую эту нитку, схоронясь за канавой, дергал, а жильцы, не видя в мерцающем дождевыми каплями темном стекле никого стучавшего, сходили от страха с ума.
Доставлял он тщательно изготовленные телеграммы от родственников из Киева с просьбой встретить в шесть тридцать утра на вокзале. Прибегал, радостно дыша, сообщить, что в «Казанке» отоваривают чем-то невероятным самый захудалый талон продуктовых карточек, а все принимались терзаться – бежать ли сразу, или вдруг выбросят еще что-нибудь?
Не стоило попадать с ним в трамвай. Тут он бывал безжалостен. Вдруг, чинно сидя рядом и держа в руках, скажем, «Краткий курс», издавал горлом мгновенный животный звук, а потом, отшатнувшись, глядел на тебя с изумлением и опаской, и, конечно, глядели на тебя все, кто ехал. Когда пассажиры снова утыкались в свои мысли, он то же самое повторял… Господи!..
Но это, если сидел рядом. А если – впереди, то специально выходил на остановку раньше, предварительно извозив обращенную к тебе спинку своего сиденья скопленными за три остановки, если считать от Рижского (тогда Ржевского) вокзала, в носоглотке соплями. Он, значит, выходил, а ты продолжал ехать, имея перед собой лоснившуюся от его носоглоточного продукта поверхность, и творцом этой гнусности стиснутым пассажирам представлялся, конечно, ты. А кто же еще?
Между прочим, в автобус и троллейбус тогда соблюдалась очередь, а в трамвай – нет. Сейчас, кроме памятливого меня, этого уже никто не помнит. Трамвай брался приступом во все двери. В столь зверской обстановке он проделывал каверзу самую подлую. Опять-таки на остановку раньше устремлялся к выходу и, когда трамвай к ней подходил, начинал выпрастываться, не давая людям сесть, но при этом оборотясь к тебе. А образовав совершенно лишнюю для врывавшегося народа заминку, на весь трамвай с тобой наскоро договаривался: «Кошелек тетки с накрашенными губами делим вечером! А фраерский лопатник толкаем! Передай Глухоне, что я буду с орденами и в новых галошах!»
Покидание в транспорте сообщника даже карманники называли «оставить на пропаль», как же тогда расценить его выходку, если понятно, на кого глядел, когда он выскакивал, бессчетный трамвайный народ? В особенности те, кому его инструкции только что мешали прорваться? А он лыбился с тротуара, и, отъехивая за окном назад, орал губастым своим хавальником: «Как я тебя купил? А?»
Всё так, и все-таки, несмотря на постоянный позыв насмешничать, в нем словно бы теплилось ощущение иного содержания жизни, этакое слободское почтение к основательности и хоть по молодости дурашливому, а все же остающемуся в определенных рамках поведению – то есть когда кто-то озоровал тоже, но жил при этом и по-серьезному.
Однажды его озадачил то и дело задираемый им сосед, причем настолько, что Кастрюлец подумал было, что приобщился высшей мудрости, ибо услыхал засевшую в нем на всю жизнь фразу: «У тебя, Кастрюля, настает время мысли».
Однако пакостей своих тем не менее не оставил.
Я, хотя и был помладше, но тоже кое-чем ему отплачивал.
Он, к примеру, боялся кошек, и, когда мы душными ночами спали во дворах, я однажды изобильно окропил его раскладушку и все вокруг валерьянкой, так что, когда посреди ночи, оттого что в лицо светила луна, он проснулся, то в куинджиевском ее сиянии увидел вокруг своего места ходивших, сидевших и в томлении катавшихся по наркотической траве неведомых котов. Явно не местных и поэтому особенно пугающих лунной фосфоресценцией. Из наших же новоостанкинских пришли мало кто, ибо в ту ночь мы находились с наветренной стороны. Некоторые из инфернальных пришельцев кошачьим зевком сонно разевали пасти, кто-то терлись шеями о траву, какие-то, отуманившись гипнотическим запахом, умывались под луной за ушами и вылизывались под хвостом, а наиболее роковые, стоя лицом к лицу, пристально глядели друг другу в душу и, клокоча утробой, колотили зеленоватыми подлунными хвостами. Причем какой-то зеленый-зеленый, но Кастрюльцу, видевшийся, конечно, кроваво-красным, давно уже, свернувшись бубликом, спал у него на конце ноги.
Кастрюлец задрожал и затрясся, однако собрался с духом, сел и спихнул спящего ступней. Рдяный кот без стука упал с раскладушки, а голая теперь стопа Кастрюльца сразу от луны позеленела, то есть узрелась им, конечно, в крови, и он обмер, тотчас поджав ноги и нахлобучив на себя одеяло. И даже заплакал от ужаса, потому что разогнать невероятных пришельцев не решался. Когда, наконец, собравшись с духом, он замахнулся на них подушкой и трусливо крикнул «брысь!», те сперва на него поглядели, потом в недоумении стали удаляться, отползать и откатываться, а потом, перестроившись, снова сомкнули кольцо, причем теперь кое-кто из них расселись по окаймлявшим наше спальное урочище березам, а кое-кто стал точить когти об удобные для этого грубые швы коечной парусины, то есть почти об руки-ноги Кастрюльца. Кое же кто, верней, тьмы и тьмы просто остались голубеть и зеленеть по ночной окрестности…
Был еще случай, когда в триумфаторах оказался я. Хотя мое коварство явно напрашивалось и уступало его изощрениям, зато была в нем почитаемая Кастрюльцем основательность, и он, помня слободскую свою породу, злодеяние мое оценил высоко, то есть, хотя здорово купился, ему – пакостнику из пакостников – сделалось хорошо и весело. Но об этом после.
А вообще-то куда мне было до него!
В разгульные деньки первой молодости, когда Кастрюльцу с его беспутными дружками, среди которых отметим печальнейшую личность, невероятным равнодушием неукоснительно добивавшуюся от женского пола чего хочешь, а именно скользкого человека Леню Похоронского (тоже именованьице, каких не бывает!), так вот, когда им попадалась непритязательная особь сельского происхождения, они применяли невесть как попавший к ним старинный волосяной парик, завалявшийся на чьем-то чердаке со времен графа Шереметева. Утомленный объятиями обладатель покладистой простушки уходил из ночного сарая якобы по нужде в темноту двора, сдергивал парик и передавал его товарищу. Тот, обдирая впопыхах уши, напяливал пыльный тупей и вступал в блудоприютные сарайные чертоги, дабы возлечь с дурочкой тоже. А та, дождавшись, когда пацан снова примется делать чего хочет, ерошила непокорные его вихры, ибо для большего правдоподобия парик все-таки был перестрижен материными ножницами под полубокс.
Между тем детство детством, каверзы каверзами, военкомат военкоматом, а Кастрюлец из подростка хулиганского возраста превращался в лоботряса-юнца, работая при этом у часового мастера Шпандлера, будка которого находилась возле Грохольского переулка.
Шпандлер, Шпандлер! Ну ничего, просто ничего от тебя в памяти не осталось! Облик твой если не позабыт, то размыт, и даже при отчаянном воспоминательном усилии, когда нечто подобное тебе, выплывши из ниоткуда, повиснет у бессонного моего изголовья, это бывает всего-навсего какое-то промасленное пятно, какая-то недоудаленная химчисткой времени захватанность подсознания. И тут – по-ночному безысходно – начинаешь понимать, насколько, Шпандлер, тебя больше нет. И уж самое хуже всего, что, когда от меня тоже останется такое же пятно, вместе со мной пропадет распоследний обмылок твоего лица тоже. Зато сейчас я совершу некое воскрешение – возглашу и оставлю жить на века гордую фразу, которую ты, мастер, бывало с достоинством произносил: «Я, когда в пинцет волос попадает, чувствую...» И это была чистая правда. И становилось ясно, что больше никто волоса в пинцете не чувствует, а теперь и подавно никому не почувствовать. И ты себе представить не можешь, как я рад, таково додумавшись упасти твою все еще тикающую для меня суть!
Работа у Шпандлера, а Кастрюлец работал у него, поскольку заканчивал десятилетку в школе рабочей молодежи и полагалось где-то работать (это в те годы был правильный житейский ход, а почему – я, так же как двуухое и одноносое лицо Шпандлера, позабыл), так вот, работа у Шпандлера предоставила ему исключительные возможности триумфально вступить в умопомрачительный мир хотений, наседаний и овладеваний, которому он был предназначен.
Первая же клиентка со спешащими часиками, от которой он, недолго и жадно поухаживав неумелыми по молодости руками, в кустах села Богородского (было такое в Москве, и она там жила) добился взаимности, потемнела глазами и, обалдевшая от испытанного, расписала подругам невероятное событие, а подруги, ясное дело, пересообщили это, но уже как молву, еще подругам, и под разными предлогами, потому что чинить одни и те же часики было неловко (у всех подруг и у подруг подруг имелись на всех одни часы ЗИФ), все заприходили в Грохольский, говоря, допустим, следующее: «Туся уехала на картошку и просила передать, что, как вернется, сразу принесет “Девятнадцать девять”. Это, если не знаете, про то, как московское “Динамо”, за которое вы болеете, победило в Англии четыре ихних команды. – “Челси”, – глядели они в бумажку, – “Глазго рейнджерс”, “Кардифф-сити” и “Арсенал”». И трудновато для тогдашних бесхитростных юниц выговариваемые англицизмы бывали шептаемы как самые интимные слова, притом что оробевшие девушки глядели по-собачьи. И, незамедлительно закрывшись на учет, Шпандлерова будка, пока тот отлучался в Марьину рощу помолиться, служила неописуемым сиюминутным блудилищем, отчего на полочках перепутывались заказы, а разные колесики часов мужских карманных и часиков женских наручных оказывались непонятно как в одном коробке, и благостный отмолившийся Шпандлер, не понимая, с чего бы это, раскладывал их по отдельности чувствительнейшим из пинцетов.
Кстати, мимо то открытой, то закрытой будки хаживал тогда тамошний подросток, мой будущий товарищ и коллега Андрей Сергеев, производя для своего уникального реестра нашей прошедшей жизни разные редкостные наблюдения, но о феномене часовщикова притина так и не догадавшийся.
Изгрезившиеся молодые и бездельные девушки, равно как и заезженные керосинками, стиральными досками и плитными утюгами (плюс невнимательные мужья и поспешные любовники) замужние женщины, потянулись к Кастрюльцу, тяжелооснащенному часовых дел юноше, спросив за двадцать копеек в справочном киоске, какие тогда располагались повсюду, его адрес.
Так, живи они в деревне, сунув томиться на всю семью хлебово в печку, они бы – сами истомившись – пробирались к кузнецу, всегда селившемуся на отшибе подальше от соломенных крыш (чтобы, во-первых, не спалить село, а еще чтобы черти не бегали из кузни поедать по кринкам сметану); крались бы, терпеливицы, забыться вдали от соседкиного призора на гулкой, как наковальня, пропахшей железом груди коваля. И поплакать. И побыть счастливой…
«Куй давай, золотко!» – торопились бы робкие гостьи подушевнее высказаться, потому что им, просто не знаю как, были необходимы его заскорузлые с черными потрескавшимися ногтями, негнущиеся, но ласковые пальцы. «Куй давай, золотко, а то Ковалев, Кузнецов, Смит, Шмидт, Ковальский и Ковальчук фамилий не образуется!» И следует сказать, что ни один груборукий кузнец, пусть хоть какой закопченный, не располагал для алого и пышущего женского огня такими молотом и мехами, какие у моего опасного соседа всегда находились под рукой.
И вот уже в наши края бредет мечтательная женщина. Одета она – умрешь! У нас такое никто достать и не мечтает! На подступах к свайно-бревенчатому мосту через Копытовку ей встречается местный человек в галошах. Она собирается спросить, как найти такого-то и такого-то, а он ей даже рта не дает раскрыть: «Вам надо Веню?! Что, я не знаю Веню?! Он живет в течение десять минут идти!» – и показывает мечтательнице самую окольную дорогу наш человек в галошах, а сам поспешает по короткой, подходит к Кастрюльцеву окошку и не без ехидства сообщает:
– Веня, к тебе идет шикарная дама. На глаз не видно, но, по-моему, она беременная. И, по-моему, от тебя. Так что спрятайся.
– Мать твоя женщина! – пугается Кастрюлец, утирает нос рукавом и, прихватив взятые у меня почитать известные нам «Девятнадцать девять», с большими привирательствами сочиненные Львом Кассилем, скрывается в сарай, потому что неизвестно – не станет ли заблудившаяся в своей и нашей жизни гостья ждать его целый день, околачиваясь по окрестности и мимо забора.
Был он малость губастый, с несколько разинутым ртом простофили, хотя и с иронической пройдошливой рожей, каковым – пройдохой то есть – Кастрюлец на самом деле и был. Он франтовато по-тогдашнему одевался: трикотажная из крученого трикотажа бордовая рубашка в белую повторяемую нитку, широкие брюки, ничего себе однобортный пиджак, пыльник под названием макинтош, тенниски, носки на носочных резинках, перехваты на рубашечных рукавах (рукава рубашек полагались длинными еще с боярских времен). Волосы у него, сперва спиралевидно начинаясь у корней, потом выпрямлялись, и он их, если был бриолин, бриолинил, а если брильянтин – брильянтинил.
Кепки Кастрюлец носил из букле.
Кепки эти в московской социальной истории – позиция первостепенная и, кроме своей респектабельности, весьма ценимой даже народными артистами, могут свидетельствовать о некоей поголовной мании, состоявшей вот в чем.
Скажем, вы достали отрез. Отрез ваш не бостон-дерюга. Он может быть и ратином, но о ратине в другой раз, а может быть и английской дипломатической материей.
И вот, когда замышлялось шитье пальто или костюма, только и было опасений, что мошенник портной откроит что-то в свою пользу и сошьет кому-нибудь то ли юбку, то ли продаст уворованное подлестничному кепочнику. Поэтому отрезы в шитье, чтобы не оказаться в дураках, годами не отдавались, а вы донашивали что было, хотя уворованное кепочники получали бесперебойно.
Разговаривал Кастрюлец с подначкой, обильно используя тогдашний слободской и фатовской слог. «Личат мне корочки?», «станок», «солоб», «фигак!», «а горячо – перекинь на другое плечо!», еще в употреблении был силлогизм «взгляд многообещающий, но мало дающий», еще – «лабать», «берлять» и «сурлять». Божился и простой божбой «я не я буду», и уморительной «чтоб я так жил с твоей женой!».
Взрослел он небыстро и на потеху товарищам все еще окликал какой-нибудь предмет возможного соития: «Эй ты в красном, дай несчастным!», но дальтонические обманы сбивали его с толку, и он всякий раз ошибался. Объект бывал, естественно, в зеленом, и поэтому не оборачивался. А товарищам хоть так, хоть этак всегда бывала потеха.
Будучи от перевозбужденности и непрестанного позыва неразборчив, он вскоре обрек себя на удручения и стал то серо-ртутную мазь покупать, то запенициллинивали ему беду в профилактике.
Профилактиками именовались существовавшие тогда в Москве пункты, куда по горячим следам любви (но только по очень горячим) можно было круглосуточно постучать, дабы подвергнуться совершенно бесплатной процедуре от возможного воспаления или заражения. Обычно же в профилактики заявлялись ночью – самое, естественно, время! – а там дежурный доктор, тихо погруженный под зеленой лампой в чтение только что появившейся, чуть ли не первой американской книжки под названием «Крушение мира» Эптона Синклера (с нее началось наше с вами открывание, что земля, оказывается, шар, а не одна шестая часть суши) или романа «Поджигатели», хотя и беспощадно антиимпериалистического, однако хоть как-то изображавшего потрясающую не нашу жизнь, отрывался от страницы и промывал тебе что следовало большим таким шприцем. Или огорченно говорил: «У тебя, брат, свежачок! Так что отрада твоя лжет. Отпирается в очевидном! Посему по поднятии порток попрошу вас паспорток (вот какие остроумные были в наше время врачи!), а если перестанешь ходить на уколы, приведем с милицией!» А ты между тем уже и сам постиг свою беду, потому что резь такая, что, кроме прочего, слезы тоже текут! А врач, то и дело косясь на интересную, от которой был оторван, книгу, еще раз объяснял, что заразилась она, твоя любовь, на днях, потому что в позапрошлую, как ты говоришь, неделю у тебя было все в порядке, хотя ты с нее не слезал. А вот в прошлую она повстречалась сперва не с тобой, а потом с тобой, и через три дня – всё. Привет. Терпеливо (потому что как врач), хотя и нетерпеливо (потому что оторвался от «Поджигателей»), доктор тебе все это объясняет, а ты все равно не соглашаешься быть убежден, а будешь, наоборот, верить своей подруге, которая станет недоумевающе хлопать глазами, ронять слезы и даже завсхлипывает. И уж точно воскликнет: «Я не подзаборная какая-нибудь!» И от мужа, оказывается, ничего не может быть, потому что с тех пор, «как мы с тобой, у меня с ним ничего нет!» И лечиться ни за что не пойдет, потому что оскорблена, то есть такого с ней случиться просто не может, а ты, мол, если тебе необходимо, вылечись обязательно! А то еще ее заразишь! А она, Боже упаси, мужа…
Если бы Леня Похоронский, уже испытавший на себе спасительную силу ртутной мази, не подсказал про нее Кастрюльцу, причем почему-то на экзамене по диамату, тот бы только и делал, что чесался через брючные карманы. И на остальных экзаменах тоже. А преподаватели бы думали, что он нашаривает шпаргалку…
Но вообще-то ох и погуляли они с Похоронским, человеком вялого обаяния! Замечательный такой совместный кусман жизни! И если Кастрюлец побеждал какую захочет своим при общем простодушии знаем чем, то Похоронский воздействовал безысходным равнодушием. Прекрасному полу мерещились за этим или пресыщенность завсегдатая любви, или какая-то роковая тайна, так что проще было уступить, чем подвергаться невыносимому похоронскому занудству.
Уехав по распределению в Молдавию, а именно в город Кишинев, Кастрюлец сперва затосковал, и мы ничего о нем не знали. А потом пошли письма, письма, письма. Мне письма, моему брату письма, Лене Похоронскому письма.
Уже в который раз пишу «Похоронскому» и в который раз удивляюсь: надо же, чтобы у человека была такая фамилия!
Кастрюлец, как нам известно, обожал футбол и в одном из посланий даже подтрунивал над своей удаленностью от стадиона «Динамо»:
Антадзе, Пайчадзе и вся «Даугава»,
Грамматикопуло, из «Крыльев» два хава,
Хотят тебе песню сегодня пропеть,
Что хер ты футбол будешь летом смотреть!
Первоначальное же молчание было следствием первого в его жизни фиаско. Не зная уловок провинциальных жеманниц (детский опыт за дровами не в счет), он сразу нарвался на невероятное коварство. Интимная одежда первой его молдаванской знакомой оказалась обшита по кромке воинской румынской резиной, такой тугой и широкой, что под края нательного трикотажа было вообще не проникнуть. Пока он калечил пальцы, а гордая, хотя уже ошеломленная (мы-то знаем – чем) барышня, не желая ронять себя перед столичным ухажером, сама до сих пор ничего не расстегивала, вернулась с работы оснастившая дочкины штаны и лифчик этой непроходимой резиной мать, и пришлось какое-то время поразглядывать настенный коврик, потому что разворот в материну сторону был совершенно исключен. А потом дня два было не повернуться вообще из-за известных молодым людям ноющих и саднящих обстоятельств.
Случилось же так потому, что с самого начала он забыл применить одну безотказную фразу, ибо в Кишинев приехал не с пустыми руками.
Фразу вот какую.
«Я даже не думаю, что безо всего вы интересней, чем одетая к лицу в эту одежду».
После же резинового случая он все свидания начинал только с приведенного заклятия. Сбитые с толку высокой риторикой, новые его знакомые сразу запутывались в силках столичного комплимента, понимая, что раздеваться придется куда быстрей, чем следовало. Возможно даже прямо сейчас, хотя пойти на это правильней через полтора – два изнуряющих часа, когда ухажеру наседать надоест и он вот-вот отступится, а они, как это принято у кишиневских прелестниц, горестно вздохнут и расстегнутся.
Письма, письма, письма. Их стало приходить много, и они были подробнейшими отчетами о беспрестанных победах, о поругании провинциальной нравственности, о жеманных домогательствах прослышавших про хоботоподобие молодого специалиста (я, мол, только хотела убедиться!) разных скромниц, о неожиданных падениях самых стойких недотрог, к своему удивлению, непонятно как оказывавшихся в совершенно недопустимых и бесстыдных коечных позах (Капа! Капа!), изображать которые мы не станем, ибо пишем жизнеописание, хотя и беллетристическое, однако претендующее на житийность.
Да, забыли! В письмах сообщалось про пылкое участие в преступных с ним связях многих пока что еще девиц. Очевидно, незаурядный Кастрюлец своей кепкой, рубашками, а также не своей медалью «800-летие Москвы», которую он иногда пришпиливал, плюс значок «Динамо» и регалия воинской доблести «Гвардия», подобранная им в детстве у свалочного бугра штамповочной шарашки на Ново-Московской улице, как никто другой соответствовал образу вымечтанного принца непорочных бессарабских отроковиц…
Однако с проклятым городом (дефиниция пушкинская) Кишиневом – пусть будет всё. Нам очень стоит вернуться несколько назад.
Вот Кастрюлец со шпандлеровским заработком и родительской субсидией впервые достигает Черного моря, отдохнуть от состоявшегося поступления в институт. А прибывает он в милый и забытый во времени Новый Афон – южный городок с пыльными осликами и тихими прудами, в которых купают зеленые волоса плакучие ивы и плавают лебеди; в Новый Афон, за хамские годы все еще не лишившийся монастырских мандариновых плантаций и подворий, которые теперь, правда, санаторий №3, где в главном соборе происходят танцы с культурником.
Еще в этом городке можно набрести на водопад красивой царской электростанции, а в предгорьях – на павильон будущей электрички с изображенной на полу семиконечной грузинской звездой. Еще – на полуслепого человека Петю, вползавшего на животе в мокрое отверстие неоткрытой пока что пещеры впереди охотно и по своей воле вползающих за ним туристов. Еще там полно укромных беленых беседок, а также чистых стен, на которых, спугнув дремлющего зеленоватого богомола с розовыми подкрылками, можно оставить на века свои имя и фамилию, что, например, я и сделал…
На Кастрюльце чуть ли не первые в нашем отечестве темные очки. Поэтому его задирает кто хочет, а хотели в те годы все.
– Эсли ослэп, зачем приехал?! – интересуется, чернея до глаз невыбриваемой физиономией, рыночный кустарь, изготовляющий бессмертный кавказский шик – черные лакированные босоножки на пробке.
И еще разное такое слышит в первый день Кастрюлец в вариантах грузинского, хохлацкого, ростовского и абхазского выговоров, пока озирает своим непризывным зрением чудные эти места с ярко-зеленой растительностью, почему-то, оказывается, сплошь красной, и с красными, где полагается, флагами, но зачем-то, бля, зелеными.
В Москве одежные следствия его дальтонизма корректировались друзьями и домашними, не дававшими прискорбному цветопомрачению взять верх. Теперь же, вдалеке от своих печальников, Кастрюлец дал волю цветовому беспутству, и его красно-зеленая одежная смесь повергала в остолбенение всех, кому он, сошедши с поезда, по дороге попался. Волокший чемодан Кастрюлец напоминал долговязую путешествующую герань в цвету.
На следующий день, по-прежнему имея вдобавок к позорным темным очкам таковой облик, Кастрюлец, подойдя к двум ростовским дылдам, своим видом сразу их ошарашил.
Дылды были девахами в общем-то нормальными, но решившими, чтоб не приставали грузины, говорить всем мужчинам, дабы те сразу отваливали, грубости. Когда он к оторопевшим в потрясении оторвам с простодушной смущенной улыбкой (но в черных очках!) подошел, одна, конечно, не утерпела:
– Сними очки, капрон порвешь!
Он снял. Но тут разинула пасть вторая:
– Надень очки – скамейку лижешь.
Кастрюлец растерялся.
– Чего вы сними-надень?! Давайте лучше в ресторан «Гемо» сходим.
– Оборжать такое дело! – сказали девки, плюнули и ушли куда-то вбок, вовсе ошарашенные столь широким и небывалым предложением.
Ах «Гемо», «Гемо»! По-грузински, «Гемо», ты значишь «вкус» или, если уж объяснять до конца, «самый смак». Бывал и я в тебе, «Гемо»! Вернее, возле – рядом с кустами, окаймлявшими твою электрическую в черноте южного вечера террасу.
Ибо у меня была привилегия.
Дикий курортник с оттопыренными ушами, которые со временем, конечно, поприжались, я со своим курортным капиталом в сказанный «Гемо» заходить и не помышлял. А там было – обалдеть! Кислое теплое вино, два-три с бараньей подливой грузинских варева и хлебообразные пирожные, хотя на соде, но с розовой скорлупой поверху, причем даже не заплесневелые. Еще туда, чтобы бегать ногами по еде, прилетали в тарелки особой толщины мухи и приползали во множестве осы, но эти, в основном, передвигались по бараньим оглодкам и алюминиевой, которую подносишь ко рту, вилке, хотя в компоте они сразу тонули.
Помимо сказанного в «Гемо» имелся замечательный оркестрик. За пианино сидел русский человек, на скрипке и кларнете играл армянин, а на чем абхаз и курд, теперь не помню. Любимым делом армянского музыканта было, подозвав какую-нибудь из дворняг, если не чесавшихся задней ногой, то крутившихся в соусе бараньих запахов, извлечь на тонкой струне сиплый и до того похожий щенячий голос, что пес сразу давал душераздирающий отзыв, на что следовал стон армянского же кларнета, и сердце пса с места принималось плакать – он начинал рыдать и петь, в отчаянии задирая морду к луне. А луны-то не было! Где она под полотняным навесом, луна? Так что дворняга неутоленно отчаивалась впустую, покуда официант в нечистом фартуке не кидал ей тяжелый мякиш пористого хлеба, которым промокнул заляпанную бараньей подливой настольную клеенку.
Я же оказывал оркестрику неоценимую помощь.
По одноколейной пролегавшей вдоль моря железной дороге, которая доставляла неторопливые с пижамными людьми поезда, музыкальные московские новости вообще не добирались. Местное радио заходилось на столбе несмолкаемым и осточертевшим по причине целодневности грузинским многоголосьем, и только я ввозил на побережье то, чему отдыхающие, млея от удовольствия и теплея сердцем, внимали.
Мы уходили с русским человеком Сергей Иванычем за пыльные придорожные заросли ежевики, среди колючек которой чернели солоноватые от близости моря ягоды, и я, чудовищно интонируя, напевал ему «эту песню за два сольди за два гроша» или насвистывал «Танго соловья», или еще что-нибудь. А у него был идеальный слух, и, покуда в «Гемо» армяшка тянул душу из собак, Сергей Иваныч быстро ставил на папиросной бумаге прихваченного меню нужные нотные знаки, походя исправляя попранную мной гармонию и по догадке убирая фальшь.
За эту редкостную услугу я мог вечером подойти со своей барышней к террасе и поразить ее тем, что – по моему или ее хотению – оркестр начинал играть любую вещь, даже «Венгерское танго», которое она, как, впрочем, и все остальные, слушать была готова всегда.
Ясно, какие я имел возможности, не имея никаких? Но рассказ не про меня, а про Кастрюльца, так что продолжу.
Ростовчанки, конечно, не забыли подходившего к ним обормота и, хотя по-грубиянски его отшили, на пляже все-таки расположились недалеко, придерживая на всякий случай возможного ухажера. Это у их сестры обычное дело, и нам с вами не дано знать, зачем так устроена жизнь.
Со своей подстилки, а на диком пляже Нового Афона тогда кругом-кругом было человек сто, они и оглядели выходившего из моря Кастрюльца, купавшегося, как тогда все, в больших трусах, и потому облепленного лоснящимся от воды их сатином. Квадратные трусы, детально обрисовывая во влажном виде неслыханный Кастрюльцев горельеф, больше всего походили на мемориальную доску в память создания Гоголем повести «Нос», так что, глянув искоса на таковую сатиновую лепку, девахи сглотнули воздух и потеряли над собой власть.
Кастрюлец, по-дурацки сдергивая ноги с нестерпимо для подошв прожаренной гальки, пробрался к своему месту и улегся загорать вдоль моря, но головой в сторону женского пляжа, отделенного в те библейские времена от остального – общего – только лохматой веревкой. Голова Кастрюльца была завалена от солнца пижамой и полотенцами, но в ворохе этом оставалась щелка, а в щелку одним окуляром был просунут прихваченный из Москвы бинокль, в который он стал глядеть. А поскольку женский пляж и так был в нескольких метрах, он разглядывал тамошних посетительниц словно под микроскопом, то есть настолько детально, что, когда какая-нибудь пятясь расстилала параллельно морю подстилку, получались даже видны ее гигиенические необходимости.
Девки пошептались, потом подошли, коснулись его сосредоточенной спины, и, сперва обеспокоившись, не сгорел бы он, давно лежа на солнце, сказали: «Не обижайтеся, что мы вам вчера сгрубили. Мы всех бортаем, потому что приехали отдыхать и не вокзальные профуры в балеточках. А если вы пока еще не ходили в Гемо”, давайте пойдемте пообщаемся. Там горные народы Венгерское танго” играют!»
В «Гемо» он попросился за пианино (я не сказал, что у него дома, кроме велосипеда, был инструмент орехового дерева, и Кастрюлец, нигде не учась, здорово наловчился играть разный запретный джаз) и выдал такое, что собаки принялись облаивать поднявшего руки на ресторанное имущество чужака, наскакивать, отскакивать и по всей террасе бегать как сумасшедшие. А он себе играл, а собаки лаяли, а все на них замахивались, и еще пуще заперепиливали тишину вынужденные таковым шумом добавить звука цикады, а с ночной горы долетала своя музыка, ибо там высился санаторий №3, где в бывшем новоафонском соборе происходили танцы-обниманцы. А вокруг был черный южный вечер и шептались, как водится, пальмы, и музыкантам приспичило записать новые мотивчики, так что Кастрюлец с Сергей Иванычем сговорились на субботу.
Я же стоял за оплетавшей террасу дикой лозой, и, вдыхая бальзамический дух разогретого за день самшита, слушал вместе с уже благодарной мне моей девушкой «Венгерское танго», которое, когда мы подходили к «Гемо», заиграло само – я ведь не знал, что это лабает мой сосед, с которым, как вы помните, мы распевали в детстве про покладистую пионерскую вдову. Надо мной и девушкой под светом возлеверандного фонаря клубились белые бабочки с мухами и беззвучно метались, то и дело уловляя их нептичьим вспархиванием, черные плоские нетопыри.
Доев содосодержащие пирожные, хорошо, кстати, снимавшие после бараньего соуса изжогу, ростовчанки ушли с Кастрюльцем по ночной дороге купаться. А что такое купаться ночью, знает каждый, кто в советское время жил.
Нетопыриная ночь верещала цикадами и была вся из теплых складок, точно черная с серебром тяжелая мамина юбка. Во тьме было не видно дороги, хотя блестел, конечно, кремнистый путь, и приходилось натыкаться на невидимые заросли обочин, которые заполночь настаивали, что бесконечность мира – черная чушь, если не чья-то выдумка, особенно, когда идешь втроем и, хотя ты в Новом Афоне, поешь «о, море в Гаграх, о, пальмы в Гаграх!».
Хрустя галькой, они сразу же нащупали лежак – на этом пляже были высокие лежаки – и уселись на него втроем. Потом покурили, потом научили Кастрюльца божиться по-ростовски нараспев, а потом стали дурачиться и, дыша куревом, во тьме целоваться, но при этом не забывали о пограничниках, которые, шваркая кирзой, таскались ночами по берегу, препятствуя высадиться десанту. Вдобавок с какого-то мыса шарил голубой прожектор, и ото всего этого не получалось ощутить себя в безопасности, так что было даже не повизжать и не поржать, и при случае не забыть про пульсирующий темной тушью ночи остальной мир.
Потом решили, конечно, искупаться. И конечно, голыми. Ночью ведь ничего не видно, а голыми в тыщу раз приятней.
Море было теплое и не шевелилось. Стоя недалеко от берега, они, чтобы не навлечь пограничников, тихо плескались. На маслянистой поверхности колеблемой воды качались дробленые небесные отсветы, а изнутри всплывали, колыхаясь, пятна непонятных морских свечений. На ростовских окунавшихся грудях повисали светящиеся капли, которые шепотом было позволено сгребать Кастрюльцу хоть двумя руками. За этим занятием все трое затихли, пока девкам вдруг не стало невтерпеж, и они, бесстыжие менады, хотя Кастрюлец под черной водой уворачивался, стали хватать его за исполинский в воде, потому что еще более увеличенный, если глядеть сквозь нее днем, тирс, ибо античные игрища, конечно, недоизвелись монастырскими бдениями, и всякая новоафонская ночь воскрешала, где ей вздумается, позабытые беснования. И бесстыжие менады наши, вовсе распалясь и в исступлении, не находя, как они от века это делали, чтобы разорвать, живого козленка, придумали вот какой понт (ну да – вокруг же Понт Эвксинский!) – сговорились перехватывать увитый морскими свечениями Кастрюльцев тирс, и рука которой окажется наверху, та первая пойдет вытираться и, разведя ноги, ложиться на лежак, а вторая пока пошухарит. А потом вытираться пойдет вторая. А что могут захрустеть галькой пограничники, только будоражило, как будто ты вся под мальчиком и вот-вот появится с работы мама.
«Валька! Такого не бывает! Не упрекай, Ростов, девчонку! Уй-юй-юй!» – послышался с лежака глухой крик. А Валька, писая про запас в теплое море и сразу заодно моясь, громким шепотом беспокоилась: «Ты там его не приканчивай. А то смылится!..» «Вал-ля! Такие не смыливаются…»
И только что сверкавшие заодно с повисавшими на грудях каплями ростовские глаза – темнели сперва у одной, а потом у другой. А потом темнели по новой. Но этого в черноморской тьме было не разглядеть…
Молве дан был ход.
Через два дня на базаре случилась перепалка – сразу трое курортниц окружили Кастрюльца и повздорили из-за мацони, во-первых, советуя, где его брать, а во-вторых, простокваша это или варенец. И продававшие мацони черные старухи тоже перессорились, но те из-за покупателя.
На пляже лепные Кастрюльцевы трусы стали угрожать распадом как парам складывавшимся, так уже сложившимися приехавшим. Кольцо пахнувших плохим кремом симпатизанток стискивалось вокруг Кастрюльца, так что даже в бинокль поглядеть не удавалось. Правда, теперь у лохматой веревки, покрасивей свесив груди, стал расстилать полотенца вдоль моря чуть ли не весь женский пляж, давно уже Кастрюльца оценивший. А поскольку ростовчанки смотались в Сухуми и за большие деньги купили для него на базаре модные плавки в обтяжку (а в обтяжку – оно и есть в обтяжку!), с ним стали заговаривать, отставляя и поджимая зады, все курортницы. Тут уж девчонки-ростовчанки, не надеясь удержать оборону, намекнули на кое-что ничего не понимавшим мужьям и ухажерам. Но это они сделали зря. И себе не на пользу. Кроме дамских потасовок, Кастрюльца ожидал теперь правильный мордобой.
А тут и на горе, в санатории №3, куда он даже еще ни разу не поднимался на танцы, в палатах, где путевочницы жили по шестеро и у каждой под кроватью стоял в тазу свой арбуз с искромсанным мокрым вырезом, чтобы удобней есть ложкой, тоже стали чуть ли не выцарапывать друг дружке глаза, и, чтоб не нарываться, Кастрюлец еще до субботы сбежал в Гагры, так и не напевши Сергей Иванычу обещанное. Поэтому на ближайшие годы все опять сваливалось на меня...
…Прошла веселая молодость, и ему предстояло жениться. На этом настаивали родители. С невестой его познакомили, и до свадьбы их отношения были вполне традиционными, хотя Кастрюлец вел себя как слон в посудной лавке. Между прочим, невеста происходила из Кишинева и была, понятное дело, обшита по каемке военной резиной, но он все равно, дурачок, забывался и, когда она отпихивала его уже обеими руками, говорил что-нибудь сто раз проверенное, скажем, «взгляд многообещающий, но мало дающий», причем, чтобы обезоружить строптивицу, провоцировал ее взгляд вовсе, кстати, не многообещающий, или обе отпихивающие невестины руки обратиться к вздутию бостоновых своих брюк.
Невеста, увы, руки отдергивала, а взгляд отводила черт-те куда.
Разрешил ситуацию вялый растлитель Леня Похоронский. «Кастрюля, – сказал он, – в загсе солобом не фикстулят. Подожди. Она никуда не денется. Она тебе еще надоест».
И Кастрюлец (у него же не прекращало наставать время мысли) вроде бы понял, что клеится не к первой встречной, а, как принято говорить, к матери своих будущих детей, что, оказывается, совершенно другое! Он повел себя тише, но фразу «Я даже не думаю, что безо всего вы интересней, чем одетая к лицу в эту одежду» все-таки попробовал.
Не сработало.
После же свадьбы стали происходить вещи и вовсе странные. Он жену не только не потряс, но даже не поразил. И глаза ее не потемнели, и впредь не темнели, и лицо не становилось мальчишечьим. Ей, видите ли, что-то не пришлось, и, чтобы не подвергнуться супружескому счастью, она чего только не придумывала – или рано, устав от мокрой уборки, ложилась спать, или – наоборот, не управившись с уборкой, целый вечер ходила вытирала пыль и поздно, когда он уже глядел свои двухцветные сны, укладывалась. Имевшая же место законная близость всегда происходила в каких-то хитроумных пространственных ограничениях, соответствовать которым было ой как не просто! Однако она упорно внедряла замысловатые приспособления типа, скажем, колец, накидывавшихся в санатории №3 на игровые стержни, хотя вообще-то была толстоногой коровой, и когда бежала к автобусу, то из-за узкой юбки откидывала, как в чарльстоне, ноги по диагонали назад.
И Кастрюльцу пришлось поделить жизнь на обременительную из-за дистанционных устройств – семейную и прежнюю – без таковых.
Был он в поиске и натиске неудержим и, наметив цель, невероятно искусен – этакий непромахивающийся стрелок по неуворачивавшейся дичи. Самые знающие себе цену, самые неприступные и уважающие себя женщины, причем даже партийные, сдавались, дабы после обеспамятившего их грехопадения образовать новую очередь подруг, взволнованных невероятными рассказами.
Но как он действовал?!
Он действовал, как мы с вами никогда действовать не станем. Или потому, что не сможем, или потому, что сробеем.
Вот, например, сидит он в поликлинике (почему он стал по ним ходить, скажем). Очередь во весь коридор. Сидит он от врачебных дверей неблизко, но еще не ближе интересная собой, однако явно не легкомысленная особа. Он на нее, конечно, упал. Подходить и знакомиться прямо тут при сидящей, как пеньки, очереди? Он-то что! Но она явно оскорбится. Дожидаться ее после врача? Еще чего! Да и неизвестно, получится ли что-то таким манером тоже. Поэтому он спускается в регистратуру, спрашивает в регистратуре телефон регистратуры, идет на улицу к неблизкому автомату, звонит в эту самую регистратуру и говорит, что вот на втором этаже в очереди к такому-то врачу сидит женщина в зеленом, то есть в красном, так нельзя ли, мол, ее позвать, потому что дома у нее всё, как бы это вам поточней сказать... Регистратура отвечает: «Так я и побежала!», но он убедительно и еще вежливей продолжает: «Я режиссер и принесу вам билеты на пьесу Софронова во МХАТе». А еще умоляет не намекать этой гражданке на домашние обстоятельства, то есть не пугать ее. Удивленную гражданку зовут к телефону. Он, конечно, говорит «я извиняюсь» и что он из очереди – может, она обратила внимание, он в таком зеленом, то есть красном, костюме и с кепкой на коленях? Она обратила. Тогда он вежливо объясняет, что в очереди не хотел ее конфузить, но собирался предложить пойти перед ним, однако не предложил, потому что очередь бы запротестовала. Между тем ему все понятно про ее болезень – это или почки, или, простите, цистит, ведь вы же три раза бегали? Бегали! – потому что сам он врач, но не по урологии, а по остальному организму, и может устроить ей консультацию у крупного профессора, хотя вообще-то ничего страшного нет, но не следует упускать время.
Они договариваются о встрече. Он возвращается в очередь. Чтобы не озадачивать людей (оба уходили, сказав «Я отойду на минутку! А так я за вами!»), они незаметно кивают один другому. Она улыбается. Дело кончается тем, что у нее на всю жизнь темнеют глаза, не говоря уже о семейных обстоятельствах, а для него открывается новая геометрическая прогрессия самых близких ее подруг.
К светилу он ее все-таки устраивает, потому что сам наблюдается у одного, и в поликлинику приходил закрывать бюллетень.
Так он куролесил и победительно шел по жизни, однако на веселое житье, изредка омрачавшееся разве что портящими мужское настроение зудящими микроскопическими существами, а также парой трипперов, была наложена роковая печать. То есть жизнь продолжалась бы так же ладно и весело, но у него оказалось не все в порядке с «остальным организмом». Его мать умерла в сорок два года, и у Кастрюльца к этому возрасту заподозрили то же самое. И всё, увы, подтвердилось.
Как мы знаем, человек он был продувной и поэтому пробился к тогдашнему светиле. Светило запланировал особую операцию, на какую в те годы решался только он, поскольку сам ее придумал и разработал. Операция проходила в два этапа.
Первый был проведен безупречно, и Кастрюлец стал ходить с подвешенными бутылочками. Но случилось невероятное – чудодей хирург умер. Остались ученики. Остался Кастрюлец с бутылочками. Доделать операцию, измышленную покойником хирургом, никто в нашем отечестве больше не могли – других же отечеств для нас в те времена не существовало, а может, их и на самом деле не было. Да и неизвестно, додумались ли там до такой вот чудо-операции, ибо налицо был наш приоритет.
Оставалось ждать, когда кто-нибудь из учеников освоит профессорскую выдумку. Кастрюлец ждал, а слава его, теперь дополненная женским состраданием к его безвыходному – плюс будоражащее звяканье бутылочек – положению, не меркла.
Больницы в его похождениях паузой тоже не становились. Поскольку он то и дело туда укладывался, его там ой-ей-ей как помнили. Кто в лечебницах с ходячими и полуходячими больными леживал, те знают, что лазаретные амуры самые неукротимые. Скажем, идет по больничному двору человек с загипсованной, воздетой к небу, как аэропланное крыло, рукой, а рядом, потупив очи, какая-нибудь прелестница, обстроенная подобием нефтяной вышки – иначе она пока что не перемещается (врач обещал, что вышку демонтируют недели через две). И обое идут знаете куда? За морг обое идут. На зады больничной территории, где сухие бодяки закиданы обычным здешним мусором: старыми в бурых кровоподтеках бинтами, скомканной бумагой, пожелтелыми газетами от передач, пожухшими от дождей разовыми рецептами, старым морговским тапочком и пыльными бурыми листьями. Объятие нефтяной вышки с аэропланом представить трудно, но – уверяю вас – аэроплан на месторождения спикирует. Я знаю, что говорю.
И опять же медсестры (помните Капу?), делавшие ему клистиры и готовившие к операции (они хотя и были чего только не повидавшие, – урология же! – однако почитали редкой передышкой в осточертевшей работе выбрить его перед операцией где положено), так вот, медсестры тоже ширили Кастрюльцеву славу. А в выходные и по вечерам подключались заступавшие их на алтаре любви ходячие пациентки, в рабочее время решавшиеся разве что поглядеть ему вслед, поскольку медсестры Кастрюльца караулили и кормили куриными ногами со стола №1, хотя у него был стол №7.
А Кастрюлец нет-нет и просил нянечку: «Тетя Дуся, дайте-ка мне ненадолго ключик от конференц-зала».
Да! Именно так! А тетя Дуся ему: «Веня, ты погляди на себя! На тебе же четвертинки менять надо! Чего эти окаянные от тебя хочут?»
Понаторевший ученик завершил операцию успешно. Жизнь Кастрюльца эффективно продолжилась. Правда, с годами он все больше бывал поглощаем житейскими хлопотами, так что победоносный блуд стал отходить на второй план. Да и человек он был, конечно, нездоровый, и чему было суждено произойти, то произошло.
В этой моей книге кто-нибудь то и дело уходит из жизни вымышленной смертью. Но эта смерть случилась, увы, на самом деле.
На похоронах плакал хирург. Плакал больничный персонал. Плакал Леня Похоронский. За отдаленными кладбищенскими кустами и надгробиями виднелось множество робевших приблизиться и оскорбить чувства жены заплаканных женщин (что ни надгробие, то виднелась). Их сошлось бы куда больше, когда б не безнадежная отдаленность кладбища и поздняя с облетевшими деревьями и дождями осенняя пора. У гроба, на бугре выкопанной земли возвышались жена, дети и родственники. Вблизи могилы тоже было немало народу. И женщин, между прочим, тоже. Одна билась, благодарно голося, что покойник устроил ее внука в детский сад с продленным днем. Вопленица была преклонного возраста, и предполагать что-либо неуместное не стоило. Кричала в голос бабка из регистратуры, пристрастившаяся ко мхатовскому репертуару. Плакали какие-то тетки-уборщицы, которым он что-то устроил тоже. И приятели с сослуживцами вспоминали его отзывчивость, а также массу добрых дел. Вдруг выяснилось, что уже многие годы Кастрюлец, оказывается, здорово и охотно помогает разным людям, а поскольку он был со связями, помощь его бывала успешна и своевременна. Так что «время мысли» Кастрюльца обернулось участием в заботах ближнего. Кстати, моему брату (который когда-то про это самое «время» и сказал) он тоже помог. С обоями.
А теперь, как было обещано, о «покупке» второй.
Однажды он позвонил и после заезженных, давно позабытых мной подначек, двусмысленных шуточек и дурацких напеваний сообщил, что едет в Польшу. В командировку. Тогда это было большим событием. Будучи наслышан, что я по-польски кое-что знаю, он спросил, как будет «пудра от солнца» и «крем для загара», каковые ему наказали привезти то ли жена, то ли кто-то другая. Под предлогом изысканий в специальных словарях я целую неделю созидал – надо было придумать все так, чтобы ему и в голову не пришло что-то заподозрить. Потом позвонил и сказал: «Крэм до пожарчя и пудэр до лужка». Коварство мое было надежно закамуфлировано славянскими звукоподобиями. Во фразе слышались «жара», «жар», «лужайка», то есть радовало хорошей погодой лето, и, конечно, были слова «крэм» и «пудэр».
Можете себе представить, как была огорошена этой на самом деле пакостной фразочкой, произнесенной им вслух по бумажке, церемонная варшавская пани в частном магазинчике на улице Рутковского, куда первым делом влеклись наши с вами соотечественники за модным польскошвеем? Можете вообразить сперва возмущенное ее недоумение, а потом, когда он еще старательней повторил непотребную фразу, ее негодование – негодование гордой полячки? Можете представить, какой зашелестел вокруг антисоветский ропот, как запорхали язвительные бабочки польских слов, приколотые булавками постоянных ударений к воздуху оскорбленного москалями отечества и с каким чувством гордого превосходства хохотали сперва было опешившие от неслыханной наглости комиссионные сарматы над неотесанным пришлецом, ибо фраза означала: «Крем для пожрать и пудра для койки»?
– Ну купил! Ну дал! – помирал он со смеху, оповещая меня по телефону о произошедшем на улице Рутковского. И, явно проникшись ко мне мотивированным теперь уважением, ибо я и правда оказался непрост (он же понимал, что лингвистическая шутка будет почище измазывания соплями трамвайных спинок), повел разговор на приличествующем уровне.
– Всё пишешь? – как все и всегда, скрывая за небрежной иронией желание не ударить лицом в грязь, поинтересовался он. – Не свое-то небось не читаешь?
– Читаю, читаю…
– И «Декамерона» читал?
– Ну!
– Забожись!
– Чтоб я так носом кашлял!
– Он что у тебя есть? – потрясенно ахнул Кастрюлец.
– А то!
– Дашь почитать?
– Счас! Разбежался! Ты мне «Девятнадцать девять» отдал?!
И вот еще что. Тоже учитывая факт жены и детей, у самого далекого надгробия стояла Капа. Она разрыдалась, уже когда прочла на камне, прежде чем позади него встать:
Зачем ты в эту глину лег
И там теперь лежишь продрог?
Сквозь слезы Капа, как в перевернутый бинокль, глядела на похоронную вдали скорбь, и тут вдруг выяснилось, что глаза у нее синие-синие.
Она то и дело вставала на цыпочки.
Вдалеке стали кидать землю.